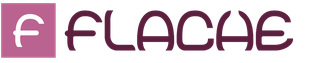Состояние младенческой смертности в современной России
Голева Ольга Петровна,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения региона,
Богза Олеся Геннадьевна,
заочный аспирант кафедры общественного здоровья и здравоохранения региона.
Омская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Младенческая смертность – один из демографических факторов, наиболее наглядно отражающий уровень развития государства и происходящие в нем экономические и социальные изменения. Данный показатель используется в качестве сравнения уровня развития государства и свидетельствует о развитости системы здравоохранения . В связи с чем, в современных социально-экономических условиях при продолжающемся снижении рождаемости изучение репродуктивного здоровья матери, состояния плода и новорожденного является одним из приоритетных направлений деятельности органов здравоохранения .
Сравнительные данные показателей репродуктивных потерь характеризуют выраженное отставание Российской Федерации от развитых стран. Так, средний показатель младенческой смертности для 25 стран-членов Европейского союза составил в 2005 году 4,7‰ на 1000 живорождений. В США младенческая смертность находится на уровне 6-8‰, Китае – 21‰, Ираке – 88‰, странах Центральной Африки – 113‰, Афганистане – 165‰ .
В течение последних десятилетий отмечается положительная динамика снижения показателя младенческой смертности в Российской Федерации . Начиная с 1985 года, оно неуклонно сокращается, снизившись с 20,3‰ на 1000 человек до 7,3‰ на 1000 человек в 2011 году. В структуре детской смертности потери на 1-м году жизни составили 80% .
Уровни младенческой и детской смертности существенно различаются в разных регионах Российской Федерации. Так, младенческая смертность по территориям страны различается более чем в 3,5 раза с концентрацией низких показателей (8-12 случаев на 1000 родившихся) преимущественно на северо-западе и в центре России, при этом максимальные показатели (25-30 случаев на 1000 родившихся) устойчиво фиксируются на Дальнем Востоке и в Сибири . Снижение коэффициента младенческой смертности в 2011 году наблюдалось в 46 из 83 регионов-субъектов федерации.
Сегодня эксперты многих стран могут выделить три главные причины неонатальной смертности: недоношенность, врожденные пороки развития и асфиксия . В развивающихся странах неонатальная смертность в 86% случаев является результатом инфекций (36% тяжелых форм – сепсис, столбняк, пневмония, диарея), в 23% - асфиксии, в 27% - преждевременных родов. В Великобритании ведущими причинами младенческой смертности выступают: незрелость новорожденного – в 47%, врожденные пороки развития – в 23%, инфекции – в 105 случаев . В Австралии 95% смертей новорожденных приходится на две причины: 64% - состояния перинатального периода и 31% - врожденные пороки развития .
Снижение младенческой смертности в Российской Федерации (на 38,2% за 1991-2009 годы) произошло преимущественно за счет уменьшения неонатальной смертности (на 41,8% - с 11,0‰ в 1991 г. до 6,4‰ в 2005 году), и прежде всего за счет двухкратного снижения ранних неонатальных потерь (с 8,9‰ до 4,5‰ за те же годы, или на 49,6%).
Смертность детей в постнеонатальном периоде снизилась в значительно меньшей степени – на 32,4% за период с 1991 года по 2005 год (с 6,8‰ до 4,6‰). При этом доля потерь в возрасте 28-365 дней жизни в структуре умерших детей до года увеличилась с 39,1% в 1991 году до 41,2% в 2005 году, с закономерным уменьшением числа умерших по числу прожитых месяцев – 10,7%, 6,9% и далее по убывающей до 1,2% на 11-ом месяце жизни .
В 2011 году при общем снижении младенческой смертности на 2,7% (с 75,3‰ на 10 000 родившихся живыми в 2010 году до 73,3‰ в 2011 году) отмечался рост младенческой смертности от внешних причин – на 2,4% (с 4,2‰ на 10 000 родившихся живыми в 2010 году до 4,3‰ на 10 000 родившихся живыми в 2011 году), от некоторых состояний, возникающих в перинатальном периоде – на 0,6% (с 34,5‰ на 10 000 родившихся живыми в 2010 году до 34,7‰ на 10 000 родившихся живыми в 2011 году). Осталась без динамики младенческая смертность от болезней органов пищеварения (0,5‰ на 10 000 родившихся живыми), пневмонии (3,1‰ на 10 000 родившихся живыми) .
К 2007 году ведущие причины смерти от болезней перинатального периода четко разделились на 2 кластера. Более 60% смертности от этих заболеваний приходились на другие причины перинатальной смертности и другие респираторные состояния, вклад которых различался незначительно: на долю первых приходилось 31,5% в мужской и 32,6% в женской популяции (1 место), на долю вторых – соответственно, 30,9 и 31,3% (2 место).
Во второй кластер входили гипоксия и асфиксия в родах (11,7 и 11,1%, соответственно) и родовые травмы и затруднительные роды (8,6 и 6,2% соответственно) .
Второй ведущий класс причин младенческой смертности - врожденные аномалии. Показатель младенческой смертности от врожденных аномалий составил в 2010 году 18,2‰ на 10 000 родившихся живыми, что на 56,5% меньше чем в 1995 году (41,8‰ на 10 000 родившихся живыми) . На первом месте с большим отрывом среди всех врожденных аномалий развития занимают врожденные аномалии сердца, доля которых достигает 40% . Порядка 30% занимают другие врожденные аномалии развития. Третье место занимают врожденные аномалии органов пищеварения – до 9% у мальчиков и 8,5-8,3% у девочек .
Третий ведущий класс причин младенческой смертности – смертность от болезней органов дыхания. Показатель младенческой смертности от болезней органов дыхания составил в 2010 году 4,6‰ на 10 000 родившихся живыми, что на 81,0% меньше чем в 1995 году (24,2‰ на 10 000 родившихся живыми) . На первом месте занимает смертность детей от пневмоний, однако доля их весомо уменьшилась от 87,6-88,5% в 1965 году до 75,5-72,2% в 2007 году. При этом существенно вырос вклад смертности от острых респираторных инфекций – от 2,8-2,4% в 1965 году до 18,1-22% в 2007 году, которые вышли на второе место в структуре смертности от болезней органов дыхания. Третье место в структуре смертности занимает грипп, доля которого значительно снизилась за последние десятилетия с 8,8-8,2% в 1965 году до 3,2-2,7% в 2007 году . Снижение смертности от пневмонии позволяет говорить о высоком уровне работы педиатрических служб.
Четвертый ведущий класс занимают – младенческая смертность от травм и отравлений. Показатель младенческой смертности от внешних причин смерти составил в 2010 году 4,7‰ на 10 000 родившихся живыми, что на 53,5% меньше чем в 1995 году (10,1‰ на 10 000 родившихся живыми) . Ведущей причиной младенческой травматической смертности занимает случайное механическое удушье закрытием дыхательных путей и удушением постельным бельем, материнским телом, подушкой, механическая асфиксия рвотными массами.
В структуре причин младенческой смертности от болезней органов пищеварения ранговые места занимают: неинфекционный энтерит и колит, непроходимость кишечника без упоминания о грыже и другие болезни органов пищеварения. К 2007 году вклад непроходимости кишечника в младенческую смертность от болезней органов пищеварения вырос до 26,9 и 30,9% соответственно (первое место), на 2 место у девочек вышли другие болезни органов пищеварения (17,6 и 25,5%, соответственно), вклад неинфекционных энтеритов и колитов составил 23,1 и 20%.
Необходимо отметить довольно значимый XVIII класс болезней по МКБ-X – «симптомы, признаки, отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках», составлявший среди причин младенческой смерти 4,7% в 2000 году до 6,4-5,6% в 2009 году. Основное место в структуре данного класса принадлежит синдрому «внезапной смерти грудного ребенка», который составляет 61,5-62,8% от числа смертей в данном классе состояний.
В 80% случаев смерть детей от синдрома внезапной смерти происходит до 1 года жизни, причем из них 51% приходится на первые 3 месяца жизни. Возрастной пик находится на уровне 2-4 месяца. Частота его случаев увеличивается каждую следующую неделю до возраста 12 недель, а затем постепенно уменьшается до возраста 36 недель. Отчетливо прослеживается, что наибольшая смертность наблюдается в осеннее-зимние месяцы, что в значительной мере соответствует сезонности респираторных заболеваний. По данным ряда авторов, только при 20% случаев при внезапной смерти в качестве основного заболевания является синдром внезапной смерти, тогда кА в 80% случаев были выявлены достаточно выраженные патоморфологические изменения, что позволяет определиться в структуре диагноза. По данным аутопсий среди основных причин внезапной смерти детей до 1 года доминируют врожденные состояния и пороки развития, формирующие терминальный симптомокомплекс, далее заболевания органов дыхания и инфекционные заболевания .
Таким образом, пути дальнейшего снижения и профилактики младенческой смертности многими авторами видятся в:
1) реализации нормативно-правовых актов об охране материнства и детства;
2) совершенствовании организационных структур – перинатальных центров;
3) скрининговых пренатальных методах диагностики состояния плода;
4) динамическом наблюдении за беременной с проведением первичной и вторичной профилактики осложнений гестации в разных группах;
5) рациональном выборе места, срока и способа родоразрешения;
6) интенсивном наблюдении и терапии новорожденных групп риска;
7) регулярном медицинском наблюдении за больными детьми в амбулаторно-поликлинических условиях и своевременной их госпитализации;
8) обеспечение доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям на всех этапах.
Среди стратегических направлений по снижению младенческой смертности главным должна стать реализация профилактического звена в охране здоровья матери и ребенка:
· первичная, преимущественно социальная профилактика (обеспечение достойного жизненного уровня, оптимального образа жизни, охраны окружающей среды и сохранения генофонда человека);
· вторичная – медико-социальная (донозологическая – раннее выявление риска заболеваний на основе скрининга, предотвращения их развития);
· третичная – медицинская (реабилитация, предупреждение осложнений, инвалидности).
Литература
1. Баранов А.А.. Смертность детского населения в России (тенденции, причины и пути снижения): монография / А.А. Баранов, В.Ю. Альбицкий. – М.: Изд-во Союза педиатров России, 2009. – 387 с.
2.Волков И.М. Предотвратимая смертность детей как индикатор деятельности российского здравоохранения / И.М. Волков, Т.В. Яковлева // Вопросы современной педиатрии. – 2005. – Т. 4, прил. № 1. – С. 95.
3.Галышева Н.В. Оптимизация подходов к диагностике патологии сердца у новорожденных): автореф. дис. … канд. мед. наук / Н.В. Галышева. – Екатеринбург, 2009. – 25 с.
4.Грунина С.А. Эколого-демографический анализ младенческой смертности в Ульяновской области: автореф. дис. … канд. биол. наук / C.А. Грунина. – Ульяновск, 2004. – 18 с.
5.Гостева Л.З. Медико-социальная оценка факторов риска фетоинфантильных потерь в формировании репродуктивного здоровья населения в Дальневосточном регионе (на примере Амурской области): автореф. дис. … канд. мед. наук / Л.З. Гостева. – Хабаровск, 2008. – 25 с.
6.Дубровина Е.В. Резервы снижения младенческой смертности в России / Е.В. Дубровина // Вопросы современной педиатрии. – 2006. - № 6, Том 5. – С. 8-12.
7.Кваша Е.А. Младенческая смертность в России / Население и общество. Информационный бюллетень Центра демографии и экологии человека института народохозяйственного прогнозирования РАН. – 2001. - № 57.
8.Кораблев А.В. Оптимизация стационарной помощи детям первого года с перинатальной патологией как резерв снижения младенческой смертности и детской инвалидности: автореф. дис. … канд. мед. наук / А.В. Кораблев. – СПб, 2006. – 22 с.
9.Корсунский А.А. Региональные особенности смертности детей в России / А.А. Корсунский, Л.С. Балева, Е.Е. Карпеева // Педиатрия. – 2005. - № 1. – С. 13-17.
10. Мокринская Е.А. Клинико-социальные аспекты управления перинатальными потерями в женской консультации: автореф. дис. … канд. мед. наук / Е.А. Мокринская. – Челябинск, 2005. – 22 с.
11. Мурзабаева С.Ш. Оценка экономической эффективности методов пренатальной диагностики врожденных пороков развития / С.Ш. Мурзабаева // Экономика здравоохранения. – 2006. - № 2. – С. 36-41.
12. Мухаметскин Р.Ф. Оптимизация этапа межгоспитальной транспортировки недоношенных новорожденных в критическом состоянии: автореф. дис. … канд. мед. наук / Р.Ф. Мухаметскин. – Екатеринбург, 2009. – 25 с.
13. Обоскалова Т.А. Оптимизация акушерско-гинекологической помощи для предотвращения репродуктивных потерь в крупном промышленном центре: автореф. дис. … д-ра. мед. наук / Т.А. Обоскалова. – Челябинск, 2005. – 50 с.
14. Опыт работы и задачи перинатальных центров по снижению перинатальной и материнской смертности: информационное письмо / А.Н. Юсупова, О.Г. Фролова, З.З. Токова и др. – М.: ООО «Форза», 2009. – 52 с.
15. Протокопова Н.В. Роль перинатального центра в снижении материнской и перинатальной смертности в Иркутской области / Н.В. Протокопова // Акушерство и гинекология. – 2009. - № 4. – С. 47-50.
16. Ремнева О.В. Возможности акушерских и лечебных технологий в снижении перинатальной заболеваемости и смертности: дис. … д-ра. мед. наук / О.В. Ремнева. – Барнаул, 2011. – 306 с.
17. Российский статистический ежегодник. 2011 г.: стат. сб. / Федерал. служба гос. статистики; ред. А.Е. Суринов. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2011. – 795 с.
18. Стародубов В.И. Детская смертность как объект изучения социальной медицинской географии / В.П. Стародубов, А.А. Баранов, В.Ю. Альбицкий, А.Е. Иванова // Российский педиатрический журнал. – 2005. - № 5. – С. 4-6.
19. Classification oh perinatal deaths: development of the Australian and New Zealand classifications / A. Chan, J.E. King, V.F. Cenady et al. // J. Paediatr. Child. Heath. – 2004. – Vol. 40, N. 7. – P. 340-347.
20. Perinatal Mortality 2006 – Confideptail Enguiry into Maternal and chil Heath 2006 (UK) released 2008 // http://www.translate.google.ru (дата обращения - 02.03.2013).
21. Neonatal and perinatal mortality: country, regional and global estimates / WHO library Cataloguing-in-Publication Data // www.translate.google.ru (дата обращения).
Л.П. Суханова 1 , Н.Н. Бушмелева 2 ,З.Х. Сорокина 3
1 ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, Москва
2 Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск
3 ФГБУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова, Москва
Infantile mortality in Russia: the issue of verified
registration
L.P. Sukhanova 1 , N.N. Bushmelyova 2 , Z.Kh. Sorokina 3
1 Federal Research Institute for Health Organization and Informatics of Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow
2 State Medical Academy of the city of Izhevsk, city of Izhevsk
3 Academician V.Yi.Kulakov Memorial Research Center for obstetrics, gynecology and perinatal studies
Резюме . При оценке регистрируемой официальной статистикой младенческой смертности динамика показателей в России выглядит вполне благополучной – снижается ее уровень в целом (с 17,8 на 1000 родившихся живыми в 1991г. до 7,4 в 2011г., или в 2,4 раза), неонатальной смертности (с 11,0 до 4,2‰, или на 61,8% за те же годы), преимущественно за счет детей первой недели жизни (с 8,9‰ до 2,8, или на 68,5%), а также постнеонатальной (с 6,8 до 3,3‰ – на 51,5%). При этом максимальные темпы снижения смертности детей 1 года отмечены за последнее десятилетие - с 15,3‰ в 2000г. до 7,4‰ в 2011г. В том, насколько реальны эти данные и насколько возможны такие высокие темпы снижения столь устойчивого демографического показателя, каким является младенческая смертность, возникают очевидные сомнения, подтверждаемые при анализе ее динамики, возрастной и весовой структуры.
Принципиальной особенностью смертности детей до 1 года в России, качественно отличающей ее от стран Евросоюза, является устойчивая тенденция снижения доли неонатальной смертности и соответственно увеличение постнеонатальной («постарение» смертности младенцев) - при противоположной динамике возрастной структуры младенческой смертности в странах ЕС, где снижение ее происходит за счет поздних потерь. Эта отечественная особенность динамики показателя обусловлена недорегистрацией умерших новорожденных. Существуют два механизма занижения показателя младенческой смертности – «переброс» умерших детей в мертворожденные, не учитывавшиеся в государственной статистике, или отнесение умершего ребенка к нерегистрируемым в ЗАГСе «плодам» («выкидышам», к которым в отечественной медицине - до 2011 года включительно - относились прерывания беременности в сроке до 27 полных недель). Выявляются оба эти «механизма» на основании очевидных структурных диспропорций числа живо- и мертворожденных, а также по диссоциации весовой структуры умерших – исчезновению детей пограничной массы тела (1000-1499г), «перебрасываемых» в нерегистрируемые «плоды». Объективным показателем «переброса» живорожденных детей в мертворожденные является также отсутствие (или неадекватно малое число) умерших в первые 24 часа после рождения.
Исходя из того, что уровень младенческой и неонатальной смертности в России искусственно занижается за счет детей 0-6 суток жизни и считая показатель постнеонатальных потерь более достоверным, чем уровень смертности новорожденных, можно, ориентируясь на соотношение постнеонатальных и неонатальных потерь в странах ЕС как более правильное, рассчитать величину МС по соответствующей пропорции.
В статье предлагается метод реконструирования младенческой смертности на основе использования постнеонатальной составляющей как наиболее надежно регистрируемой.
Ключевые слова . Младенческая смертность, неонатальная смертность, достоверность регистрации случаев смерти новорожденных, детей первого года жизни.
Summary . Evaluation of recent two decades tendencies in infantile mortality shows rather a favorable situation when based on indicators from official statistics: the rates of overall infantile mortality has decreased from 17.8 deaths upon 1000 newborns in 1991 to 7.4 (that is 2.4-foldly) in 2011, neonatal mortality has decreased from 11.0 ‰ in 1991 to 4.2 ‰ in 2011 (61.8% less in 2011), the mortality of infants of first week after birth has decreased from 8.9‰ to 2.8‰ (68.5% less in 2011‰) – mainly contributing to neonatal mortality improved rates, post-neonatal mortality has decreased from 6.8 in 1991 to 3.3 in 2011 (51.5% less in 2011). Interestingly enough, the fastest rates of diminishment of the infantile mortality were pertaining to the second decade of the period studied – from 15.3 in 2000 to 7.4 in 2011.
Noteworthy, infantile mortality is generally considered to be a rather steady and persistent demographic indicator not quite susceptible to drastic or just rapid changes, thus, a strong doubt arises as to the verified nature of these statistical data. Analysis of the dynamics of these changes, of the age structure of dead-borns and the structure of newborns’ deaths along body (at-birth) weight categories only but gave growth to these doubts.
A peculiar feature of infantile mortality age structure in Russia presented in official statistics was the steady diminishment of the proportion of neonatal mortality with simultaneous growth of post-neonatal mortality (the so called ageing of infantile mortality), while in the EU, for instance, the tendencies are quite opposite to these ones: more late fatalities are not so prominent in comparison, and the overall decreased infantile mortality here comes mainly from the decreased post-neonatal mortality.
The whole nuisance with Russian peculiar features in the dynamics of the statistically presented infantile mortality could be accounted for merely by factual under-registration of dead infants.
Two evasion pathways involved in under-calculated indicators of infantile mortality in Russia were identified in this study: first, the statistical transfer of a infant dead in early neonatal period to the category of stillborn, which was quite possible before the new regulations for the official statistics on this point; secondly, entering the fact of dead infant (or stillborn) into the pool of fetus phenomena specifically including miscarriage with no official registration (on the ground that it was a fetus phenomenon) which was also quite possible before the new regulations of 2011 for the official statistics on that point. Peculiar enough was that before these new regulations, the very discontinuation of pregnancy prior to 27 full weeks of gestation had been often considered as a miscarriage only.
First, the structural discrepancies in the statistical pool between the number of life-born and still-born infants are quite obvious from the official statistics presentations, and these discrepancies were due to unjustified transfer of infants dead in early neonatal period to a stillborn category. Secondly, a mythical ablation of a whole category of newborns (and that was the category with the weight-at-birth of 1000-1499 g) not rarely occurring in statistics of registered infantile mortality, indicated the existence of great lacunae in this respect. These insufficiencies to a great extent were due to referring dead infants to unborn fetes not intended for official registration as dead-borns.
The first evasion pathway when a life-born, then dead infant was entered into the category of a stillborn was being very clearly identified judging from not rare statistical absence or unrealistically small numbers of the infants dead in the primary 24 hours after birth.
Conclusion s: Infantile mortality, or more specifically neonatal mortality, was artificially under-estimated and under-calculated in Russia in the past two decades, mainly due to sharp under-registration - through various evasion pathways - of the infants dead in the PB (post-birth) neonatal period (0-6 days after birth). Post-neonatal losses has proved to be of more verified character compared to neonatal mortality presented by official statistics. Moreover, numerical relationship between neonatal and post-neonatal losses in the official statistics of the EU has proved to be much more appropriate, presuming the possible implementation of the established there proportion for the correction of the biased statistics in our country - for the indicators of early neonatal (1 st day) and post-birth (0-6 days) neonatal mortality, in particular.
This presumed correction could be done on the way of artificially reconstructed infantile mortality rates with specified consideration to the officially registered post-neonatal mortality as much more reliable in this context – with due correction - on this basis - of early neonatal figures that were, most probably, unreliable ones.
Keywords . Infantile mortality, neonatal mortality, verification of registered newborns mortality, infants of 1 st year after birth.1. Общая ситуация с младенческой смертностью в России
Младенческая смертность (МС) является общепризнанным критерием оценки эффективности репродуктивно-демографического развития и индикатором социально-экономического благополучия общества. Уровень МС включен в показатели оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ , на снижение смертности детей первого года жизни направлены главные усилия системы здравоохранения, и именно высокая значимость данного показателя определяет актуальность проблемы достоверности его регистрации.
Динамика МС в России в течение постсоветского периода характеризуется снижением ее уровня в 2,4 раза (с 17,8 на 1000 родившихся живыми в 1991г. до 7,4 в 2011г.), что является безусловной заслугой службы охраны материнства и детства. Важно отметить, что снижение МС не было абсолютно линейным – отмечался рост показателя в годы кризиса в стране - в 1993г. (на 10,5%) и в 1999г. (на 2,4%) – рис.1, подтверждая наличие зависимости смертности младенцев от уровня жизни населения .
Рис. 1. Динамика младенческой смертности в России по компонентам (на 1000 родившихся живыми)
Максимальные темпы снижения МС наблюдаются в последние годы: если за 1991-2000 годы показатель снизился лишь на 14% (с 17,8 на 1000 родившихся до 15,3), то за последнее десятилетие темпы снижения показателя достигли предельных значений – показатель уменьшился более чем в два раза – до 7,4‰ в 2011г. В том, насколько достоверны столь высокие темпы снижения (на 8,9% в 2002г, на 9,6% в 2008г, на 7,9% в 2010г.) – возникают очевидные сомнения, подтверждаемые при анализе динамики младенческой смертности по компонентам и темпам их снижения.
Дело в том, что снижение МС в России было неравномерным по различным ее составляющим. В максимальной степени за 20 постсоветских лет снизилась ранняя неонатальная смертность (в возрасте 0-6 дней) – с 8,9‰ в 1991г. до 2,8 в 2010г., или на 68,5%, что определило высокие темпы снижения неонатальной составляющей (0-27 дня) - с 11,0 до 4,2‰, или на 61,8%. При этом младенческая смертность сократилась на 57,9% (с 17,8 до
7,5‰). В минимальной степени снизилась постнеонатальная смертность (28-365 дня жизни) – на 51,5% (с 6,8 до 3,3‰).
Соответственно разным темпам снижения младенческой смертности по возрастным компонентам, в структуре ее произошел рост доли постнеонатальной смертности (с 38,2% в 1991г. до 44,0 в 2010 г.) при относительном снижении неонатальных потерь (с 61,8% до 56 за те же 20 лет), т.е. «старение» МС – рис. 2.

Рис.2. Доля неонатальной и постнеонатальной смертности в структуре младенческой смертности в динамике 1991-2010 гг. (%)
Динамика показателей МС в России (и в целом, и по ее компонентам) при внешней оценке выглядит вполне благополучной – устойчиво снижается и общий уровень МС, и неонатальной, и постнеонатальной – рис. 3.



Рис. 3. Динамика младенческой (вверху), неонатальной (в центре) и постнеонатальной смертности (внизу) в России и странах Европы в 1990-2010 гг. – на 1000 родившихся живыми.
Однако при сравнительной оценке данных обращает на себя внимание непропорционально быстрое снижение неонатальных потерь (средний рисунок 3), уровень которых стремительно приближается к европейским значениям и при сохранении сегодняшней тенденции в ближайшие годы должен достичь их.
На нижнем рисунке наглядно видно относительное отставание темпов снижения постнеонатальной смертности (в сравнении с неонатальной).
Тем не менее, динамика всех показателей МС вполне позитивна, соответствует европейским тенденциям и вроде бы не должна вызывать тревоги. Однако при оценке структурных показателей МС в динамике и в сравнении с данными европейских стран возникают серьезные сомнения в достоверности представляемых в России статистических данных (рис. 4).



Рис. 4.Динамика удельного веса неонатальной (ННС - вверху), ранней неонатальной (РННС-в центре) и постнеонатальной смертности (постННС-внизу) в России и странах Евросоюза в 1990-2010 гг. – % к числу умерших
Как видно на рисунке 4, принципиальной особенностью динамики МС в России, качественно отличающей ее от стран ЕС, является устойчивая тенденция ее «старения» - снижение доли неонатальной смертности и соответственно увеличение постнеонатальной (с 38,5% до 43,4% за 1990-2010гг.) – при противоположной динамике составляющих МС в странах ЕС (снижение доли постнеонатальной смертности с 41,8 до 33,7% за те же годы).
В течение постсоветских лет в максимальной степени и опережающими темпами в России снижается доля ранней неонатальной смертности – с 53,9% в 1990г. до 36,8% в 2010 г. (на треть!). На среднем рисунке 4 хорошо видно катастрофическое «падение» ее доли в МС в последние годы – годы сверх успешного снижения показателя за счет смертности детей первой недели жизни (с 4,8‰ до 2,8‰ за 2005-2010 гг.) – что абсолютно нереально, не согласуется с динамикой параметров МС в странах ЕС и не соответствует действительной ситуации с состоянием здоровья и смертностью новорожденных детей в России. Эта отечественная особенность динамики МС обусловлена недорегистрацией умерших новорожденных детей первой недели жизни – «перебросом» их в нерегистрируемые мертворожденные или «плоды» массой тела менее 1000г, т.е. фальсификацией представляемых данных о ранней неонатальной смертности .
Характерно, что в 1990 г. ситуация была обратной: при уровне младенческих потерь в России 17,6‰, почти двукратно превышающем показатель в странах Евросоюза (9,9‰), доля неонатальной смертности в структуре младенческой составляла 62,4%, превышая соответствующий показатель в ЕС (58,4%). Удельный вес ранних неонатальных потерь в России превышал половину в МС (53,9%) - при 43,7% в странах ЕС, притом что уровень смертности детей первой недели жизни в России (9,5‰) был двукратно выше, чем в странах ЕС (4,3‰) – табл.1. Это вполне закономерно отражало недостаточный уровень перинатальной помощи в России.
Таблица 1
Сопоставление показателей младенческой, неонатальной, ранней неонатальной и постнеонатальной смертности (на 1000 живорожденных) долей неонатальной, ранней неонатальной и постнеонатальной смертности в младенческой (%) в России и странах ЕС в динамике 1990-2010 гг. (данные ВОЗ/ЕРБ)
| Младенческая смертность | Неонатальная смертность | Ранняя неонатальная смертность | Постнеона- тальная смертность | Доля неонатальной смертности в младенческой | Доля ранней неонатальной смертности в младенческой | Доля пост-неонатальной смертности в младенческой | ||||||||
|
|
РФ | ЕС | РФ | ЕС | РФ | ЕС | РФ | ЕС | РФ | ЕС | РФ | ЕС | РФ | ЕС |
| 1990 | 17,6 | 9,9 | 11,00 | 5,80 | 9,5 | 4,34 | 6,8 | 4,2 | 62,4 | 58,4 | 53,9 | 43,7 | 38,5 | 41,8 |
| 1991 | 18,1 | 9,5 | 11,04 | 5,68 | 8,97 | 4,33 | 7,1 | 3,8 | 61,0 | 59,7 | 49,5 | 45,5 | 39,0 | 40,0 |
| 1992 | 18,4 | 9,0 | 11,31 | 5,44 | 9,05 | 4,09 | 7,1 | 3,5 | 61,5 | 60,6 | 49,2 | 45,5 | 38,5 | 39,1 |
| 1993 | 20,3 | 8,4 | 12,11 | 5,06 | 10,4 | 3,81 | 8,2 | 3,3 | 59,7 | 60,1 | 51,3 | 45,2 | 40,2 | 39,4 |
| 1994 | 18,6 | 8,3 | 11,81 | 5,08 | 10,2 | 3,84 | 6,8 | 3,2 | 63,6 | 61,6 | 55,0 | 46,5 | 36,4 | 38,2 |
| 1995 | 18,2 | 7,5 | 11,00 | 4,77 | 9,32 | 3,59 | 7,2 | 2,7 | 60,4 | 63,5 | 51,2 | 47,8 | 39,6 | 36,4 |
| 1996 | 17,5 | 7,2 | 10,83 | 4,51 | 8,72 | 3,4 | 6,7 | 2,7 | 61,9 | 62,6 | 49,8 | 47,2 | 38,1 | 37,4 |
| 1997 | 17,3 | 6,8 | 10,49 | 4,25 | 8,51 | 3,12 | 6,8 | 2,5 | 60,8 | 62,8 | 49,3 | 46,1 | 39,2 | 37,5 |
| 1998 | 16,4 | 6,5 | 10,13 | 4,06 | 8,01 | 2,96 | 6,3 | 2,4 | 61,6 | 62,8 | 48,7 | 45,8 | 38,4 | 37,0 |
| 1999 | 17,1 | 6,1 | 9,77 | 3,89 | 7,57 | 2,85 | 7,3 | 2,2 | 57,2 | 63,7 | 44,3 | 46,6 | 42,7 | 36,5 |
| 2000 | 15,2 | 5,9 | 9,07 | 3,76 | 7,05 | 2,73 | 6,2 | 2,1 | 59,6 | 63,6 | 46,3 | 46,2 | 40,4 | 36,2 |
| 2001 | 14,6 | 5,8 | 8,65 | 3,68 | 6,77 | 2,66 | 5,9 | 2,1 | 59,4 | 64,0 | 46,5 | 46,3 | 40,6 | 36,2 |
| 2002 | 13,2 | 5,5 | 8,01 | 3,53 | 6,14 | 2,55 | 5,2 | 1,9 | 60,8 | 64,7 | 46,6 | 46,7 | 39,2 | 35,0 |
| 2003 | 12,4 | 5,3 | 7,38 | 3,42 | 5,67 | 2,48 | 5,0 | 1,8 | 59,6 | 65,1 | 45,8 | 47,2 | 40,4 | 34,9 |
| 2004 | 11,5 | 5,1 | 6,81 | 3,39 | 5,05 | 2,46 | 4,7 | 1,7 | 59,0 | 66,2 | 43,8 | 48,0 | 41,0 | 34,0 |
| 2005 | 11,0 | 4,9 | 6,36 | 3,20 | 4,76 | 2,31 | 4,7 | 1,7 | 57,7 | 65,7 | 43,2 | 47,4 | 42,3 | 34,1 |
| 2006 | 10,2 | 4,6 | 6,10 | 3,09 | 4,5 | 2,22 | 4,1 | 1,6 | 59,9 | 66,6 | 44,2 | 47,8 | 40,2 | 33,6 |
| 2007 | 9,2 | 4,5 | 5,40 | 2,99 | 3,9 | 2,17 | 3,9 | 1,5 | 58,5 | 67,0 | 42,3 | 48,7 | 42,3 | 33,2 |
| 2008 | 8,4 | 4,3 | 4,80 | 2,86 | 3,3 | 2,04 | 3,7 | 1,4 | 57,0 | 67,0 | 39,2 | 47,8 | 43,9 | 33,5 |
| 2009 | 8,1 | 4,2 | 4,60 | 2,83 | 3,1 | 2,03 | 3,5 | 1,4 | 56,8 | 66,9 | 38,3 | 48,0 | 43,2 | 33,6 |
| 2010 | 7,6 | 4,1 | 4,20 | 2,72 | 2,8 | 1,97 | 3,3 | 1,4 | 55,2 | 67,0 | 36,8 | 48,5 | 43,4 | 33,7 |
К 2010 г. - по мере снижения МС в России (с 17,6‰ до 7,6‰ – по оценке ВОЗ/ЕРБ – табл.1) произошла ее существенная структурная трансформация, и удельный вес ранней неонатальной смертности снизился с 53,9% до 36,8% (!) от числа умерших на первом году жизни, что значительно ниже соответствующего показателя в странах ЕС (48,5%). Это подтверждает тезис о том, что снижение МС в России произошло в основном за счет опережающих темпов сокращения смертности детей первой недели жизни.
Та же тенденция «старения» наблюдается и при анализе структуры детской смертности (ДС) 0-4 лет: по мере снижения МС в России уменьшается доля детей первого года в структуре умерших в возрасте до 5 лет (с 82,1 до 77,5% за 1991-2010 гг.) и относительно увеличивается число умерших детей старше года – при стабильной возрастной структуре ДС в странах ЕС, где доля детей до года выше и составляет 83,5% (рис. 5).

Рис. 5. Динамика удельного веса младенческой смертности в смертности детей 0-4 лет жизни в РФ и странах ЕС (по данным ВОЗ)
При анализе уровня ДС в сопоставлении с младенческой выявлено, что в странах ЕС показатели в 2010 г. составили соответственно 4,86 и 4,06 на 1000 живорожденных, т.е. степень превышения уровня ДС над показателем младенческих потерь равна 19,7%. В то же время в России показатель ДС (9,82‰) превысил уровень младенческой смертности (7,5‰) на 30,9%. Следовательно, в России в сравнении с европейскими странами меньшая доля детей умирает в течение первого года жизни и соответственно большая после первого года. Соотношение ДС и неонатальной смертности в ЕС составило 1,8 (4,86 и 2,72‰), а в РФ – 2,3 раза (9,82 и 4,2‰ соответственно). То есть доля новорожденных в структуре умерших до 5 лет в ЕС составила 56%, а в России лишь 42,8%, и значит большая часть детей до 5 лет в нашей стране умирает после первого месяца жизни. Следовательно, тенденция «старения» МС распространяется и на детскую смертность в России.
На рис.5 отчетливо видно увеличение разброса кривых в ЕС и России в течение 2000-х годов и «падение» показателя в 2010г. – в результате чрезмерных темпов снижения МС (за счет неонатальной составляющей).
Структура причин смерти младенцев остается неблагоприятной: как и в течение последних трех лет, в 2011г. после перинатальных состояний и врожденных аномалий развития, занимающих первые два места (47,4 и 24,5% от числа умерших соответственно), на третьем месте стоят внешние причины (6,3%). В сумме с синдромом внезапной смерти, от которого умерло 513 младенцев (3,9%), внешние и неопределенные причины смерти составляют 10,2% в структуре МС. Эта динамика нозологической структуры МС подтверждает сохраняющееся социальное неблагополучие населения и также не согласуется с представляемыми официальными данными об улучшении ситуации с МС. От «прочих причин» в 2011г. умерло 8,4% детей первого года жизни, от болезней органов дыхания - 6,2% (рис.6).

Рис.6. Причины младенческой смертности в 2011 г. (% к числу умерших)
Необходимо отметить как неблагоприятный факт, что по мере снижения уровня МС в России продолжает увеличиваться разница между показателем в селе и городе: степень превышения сельского показателя над городским устойчиво растет в динамике от 7,6% в 1990 г. до 31,9% в 2010г. и 36,7% в 2011 (в городе 6,63‰, в селе – 9,07). Это характеризует рост дифференциации города и села как по уровню медицинской помощи (нарастающее отставание уровня сельского здравоохранения от городского), так и по социальным условиям жизни в городе и селе .
Убедительным свидетельством недостоверности показателей МС в России является отсутствие их связи с демографическими параметрами, характеризующими здоровье населения (табл. 2).
Таблица 2
Коэффициенты корреляции показателей младенческой, ранней неонатальной и постнеонатальной смертности с показателем ОПЖ и общей смертностью населения по динамическим рядам показателей за 1970-2010 гг. (по данным ЕРБ/ВОЗ)
|
|
Младенческая смертность и общий коэффициент смертности на 1000 населения | Младенческая смертность И ОПЖ | Ранняя неонатальная смертность и ОПЖ | Пост неонатальная смертность и ОПЖ |
| Россия | -0,67 | +0,17 | +0,02 | +0,05 |
| ЕС | +0,84 | -0,96 | -0,93 | -0,96 |
| ЕС члены до мая 2004 | +0,89 | -0,95 | -0,93 | -0,97 |
| ЕС члены с 2004 или 2007 г | -0,39 | -0,95 | -0,93 | -0,94 |
При корреляционном анализе показателей МС и ее составляющих с коэффициентом смертности населения и ожидаемой продолжительностью жизни при рождении (ОПЖ) по динамическим рядам показателей за 1970-2010 гг. (по данным ЕРБ/ВОЗ) в странах Европы выявлена выраженная положительная связь МС с общим коэффициентом смертности (r=+84 для всех стран ЕС и =+0,89 для «старых» стран-членов ЕС до 2004 года) и столь же сильная отрицательная связь с показателем ОПЖ (r=-0,96 и -0,95). Следовательно, младенческая смертность тем ниже, чем выше ОПЖ и наоборот. Такие же коэффициенты корреляции в странах ЕС получены и в отношении показателей ранней неонатальной, а также постнеонатальной смертности.
В России отсутствует связь показателей МС и ее составляющих с ОПЖ и отрицательная связь с общим коэффициентом смертности (видимо за счет того, что в годы высокой общей смертности населения регистрировался низкий уровень младенческих потерь). Эти данные представляются как интересный факт, определяющий отсутствие должной связи уровня МС с показателями качества жизни и здоровья населения, каким является ОПЖ.
Подобная «автономность» уровня МС от общей демографической ситуации в России вызывает сомнения в истинности регистрируемой сверх успешной динамики МС и не имеет логического объяснения, поскольку и ОПЖ, и МС обусловлены общими социально-экономическими детерминантами и в принципе должны характеризоваться единой динамикой. Притом, что корреляционный анализ показателя МС и численности населения с денежным доходом ниже прожиточного уровня в регионе выявляет четкую положительную связь уровня МС с долей бедного населения (r=+0,45) и числом безработных (r=+0,56), что подтверждает обусловленность уровня МС социально-экономическими факторами.
Такая несогласованность показателей МС в России, нереальные темпы ее снижения и нарушение структурных закономерностей при динамическом анализе МС в возрастном аспекте, наконец, отсутствие связи уровня МС с демографической ситуацией и показателями ОПЖ вызывают сомнения в достоверности представляемых данных об уровне младенческих потерь.
При этом известно, что в России вплоть до 2011 г. существовала возможность искусственного влияния на уровень смертности младенцев, что А.А.Баранов и Р.К.Игнатьева (2007) назвали «механизмом фальсификации» показателей перинатальной и младенческой смертности . Таким механизмом являлось отсутствие в отечественной государственной статистике официального учета родившихся и умерших плодов/детей массой тела 500-999г (22-27 недель гестации) - в соответствии с действовавшей в России «Инструкцией об определении критериев живорождения, мертворождения, перинатального периода» (согласно Приказу Минздрава России № 318 от 04.12.1992г.) .
Второй причиной неполного учета случаев смерти младенцев может быть несовершенство существующей системы регистрации младенческой и перинатальной смертности из-за нарушения взаимодействия органов ЗАГС и ЛПУ на муниципальном, региональном и федеральном уровнях .
2. Признаки и механизмы фальсификации показателя младенческой смертности в России
Анализ достоверности регистрации МС выявляет существенные факты несоответствия регистрируемых сведений фактическим.
1. Первым признаком нарушения достоверности показателя МС являются нереально высокие темпы снижения показателя (рис. 7).

Рис. 7. Динамика погодовых темпов изменения показателей младенческой смертности и ее составляющих – в %
Согласно многочисленным исследованиям, проводившимся в течение многих лет в странах с различными демографическими показателями, с разным уровнем экономического развития и качества жизни населения, уровень МС является довольно устойчивым популяционным показателем, погодовые темпы изменения которого вне экстремальных ситуаций не могут превышать 4-5% . В то же время в России в последнее время темпы снижения МС, неонатальной и ранней неонатальной достигли рекордных величин: 9,6-11,1-13,2% соответственно в 2008г. с сокращением в следующем 2009г. (4,2-4,2-6,7%) и очередным ростом (7,9-8,7-9,1%) в 2010г.
Анализ динамики МС по регионам России выявляет резкие погодовые колебания показателя, достигающие в некоторых субъектах 40%, например в Республике Калмыкия, где показатель МС снизился с 9,5‰ в 2010г. (умерло 42 младенца) до 5,7‰ в 2011г. (умерло 24 ребенка). Столь же значительные успехи в снижении уровня МС в 2011г. в сравнении с 2010г. отмечены в Чувашской Республике (с 5,4 до 3,5‰), Пензенской области (с 7,8 до 5,7‰).
2. О нарушениях регистрации умерших детей в России свидетельствует извращение возрастной структуры МС. Последняя подчиняется жесткой объективной биологической закономерности: чем меньше возраст ребенка, тем выше уровень смертности; по мере взросления повышается уровень жизнеспособности ребенка и снижается вероятность его смерти. Характерно, что в странах ЕС ранняя неонатальная смертность в 2010г. составила 48,5% в показателе МС (1,97‰ при уровне МС 4,1‰) и 72,4% в неонатальной смертности (1,97 из 2,72‰), причем в динамике доля ранних потерь растет.
В России ранние неонатальные потери составили в 2011 г. лишь 36,5% в структуре МС, уменьшившись в динамике с 53,9% в 1990г. – что подтверждает факт «старения» МС. В некоторых субъектах, преимущественно с низким уровнем МС, доля умерших в возрасте 0-6 суток, в структуре МС существенно ниже общероссийского уровня – в Республике Коми (19,6%), г. Санкт-Петербурге (23,7%), Ханты-Манскийском АО (17,4%), в Забайкальском крае (20,0). Надо отметить, что крайне низкая доля детей первой недели жизни в МС регистрируется в «хороших» регионах – с низким показателем МС. При этом очевидно, что сокращение доли умерших в ранние возрастные периоды является индикатором нарушения регистрации умерших детей первой недели и первых дней жизни.
Аналогичная ситуация выявлена при анализе числа умерших в первые 24 часа жизни. Если в целом по РФ на долю этих детей в 2011 г. приходилось 12,9% от всех умерших в возрасте до 1 года, то в некоторых территориях показатель был ниже в два и более раза: в Архангельской области (6,8%), Калужской (6,7%) и Тульской области (3,7%). При этом во всех этих регионах уровень МС (6,8-5,5-6,9‰ соответственно) ниже чем в России (7,4). Занижение доли умерших в первые часы после рождения свидетельствует о «перебросе» умерших новорожденных в мертворожденные.
Глобальным признаком фальсификации показателя МС для достижения заданного целевого показателя МС, особенно ярко проявляющимся на больших массивах детей, является извращение в динамике соотношения умерших новорожденных и детей старше месяца . Как сказано ранее, в динамике в России происходит «старение» младенческих потерь – растет доля умерших в возрасте старше месяца жизни при уменьшении доли умерших новорожденных – вопреки объективным биологическим закономерностям изменения МС и структуре МС в мире.
Интересные данные представлены Национальным Центром статистики здоровья США , согласно которым в возрастной структуре МС по расовому и национальному происхождению матери доля постнеонатальных потерь колеблется от 29,5% среди кубинцев (1,53‰ при уровне МС 5,18) и 34,3% среди населения негроидной расы (4,57‰ из 13,31) до 50,6% среди индейцев и местных жителей Аляски (4,67‰ из 9,22). В среднем по США показатель в 2007г. составил 34,5% (2,33‰ из 6,75) – рис. 8.

Рис. 8. Младенческая, неонатальная и постнеонатальная смертность в США в 2007 г.: распределение по расовому и национальному происхождению матери
(цитируется по Mathews T.J. и соавт., 2011, www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr59/nvsr59_06.pdf.).
К сожалению, российский показатель удельного веса постнеонатальной составляющей в структуре МС - 44% в 2010г. с устойчивой тенденцией роста его в динамике - приближается к показателю у индейцев и местных жителей Аляски – 50,6%. Такая недостойная для нашей страны позиция по возрастной структуре МС обеспечивается за счет фальсификации данных - недорегистрации умерших новорожденных при более полном учете умерших младенцев старше месяца, что и обусловливает высокую долю их в МС.
3. Одним из важных признаков некорректной регистрации перинатальных и неонатальных потерь является нарушение весовой структуры мертворожденных и умерших детей: при распределении массива умерших и мертворожденных по весовым группам наблюдается так называемый «статистический провал» детей массой тела 1000-1499 г. - снижение их числа в сравнении с весовыми группами 500-999 г и 1500-1999г. Такой «провал» между группами новорожденных разной массы тела с большой долей вероятности позволяет предположить, что часть умерших детей и мертворожденных массой тела 1000-1499 г отнесена (вследствие занижения массы тела при рождении) в группу «плодов» массой тела менее 1000г, не подлежащих регистрации в органах ЗАГС – рис.9.


Рис. 9. Распределение родившихся мертвыми (вверху) и умерших в возрасте 0-6 суток (внизу) по весовым категориям (2010 г.)
4. Весьма значимым признаком «переброса» умерших детей в мертворожденные является уменьшение доли умерших в первые 24 часа среди умерших в возрасте 0-6 суток – рис. 10.

Рис. 10. Доля умерших в первые 24 часа (% от числа умерших в возрасте 0-6 суток) по весовым категориям в России
Как видно на рисунке, доля умерших в течение первых 24 часов после рождения минимальна в весовой группе 1000-1499г (36,7% от числа умерших в возрасте 0-6 дней жизни) притом, что среди детей экстремально низкой массы тела (ЭНМТ) – менее 1000г - этот показатель составил 50,9-63,2%, и среди детей массой тела более 1500 г - также выше (42,0 и 44,4%). Подобный «дефицит» умерших непосредственно после рождения в весовой категории 1000-1499г также свидетельствует о «перебросе» умерших детей в мертворожденные, поскольку не существует иных факторов, объясняющих «повышенную живучесть» детей очень низкой массы тела, реже других погибающих в первые часы жизни.
Характерно, что в некоторых регионах с низким уровнем МС (республика Коми – 4,4‰ в 2011г., Ханты-Мансийский АО – 5,2‰ при 7,4‰ в РФ) «дети очень низкой массы тела» (1000-1499г) вообще не умирали в первые 24 часа после рождения – притом, что по удельному весу мертворождаемости в структуре перинатальных потерь (80,8% - Коми и 79,1%- ХМАО при 62,8% в РФ) эти регионы практически лидируют в стране, занимая второе и пятое ранговое место по этому показателю. Уровень ранней неонатальной смертности в данных регионах составил в 2011г. 0,85‰ (Коми) и 0,90‰ (ХМАО) – т.е. в пять раз ниже чем в РФ (4,49‰) и в два раза ниже, чем в странах ЕС (1,97‰). При этом уровень мертворождаемости в этих регионах весьма высок - 4,60‰ в Коми и 3,41 в ХМАО - при 4,49‰ в России (2011г.) и 4,03‰ в странах ЕС (2010 г.).
5. Изменение весовой структуры умерших в динамике в сторону увеличения детей физиологической массы тела при снижении доли маловесных в структуре неонатальных потерь с очевидностью подтверждает тенденцию занижения показателя младенческой смертности за счет недоучета умерших детей низкой массы тела (рис.11).

Рис. 11. Сопоставление погодовых темпов изменения доли умерших новорожденных массой тела «менее 3000г» (1000-2999г) и «3000г и более» в динамике 1991-2011 гг.
Характерно, что нарастающая диспропорция весовой структуры умерших отмечена в течение последнего десятилетия (2000-2009гг.) - годы максимального снижения показателя МС, когда погодовые темпы изменений структуры умерших по массе тела резко увеличились. До 1999 г. отмечалось стабильное соотношение умерших детей по весовым группам - доля детей физиологической массы тела («3000г и более») колебалась в пределах 26-27% от числа умерших при закономерном преобладании детей массой тела «менее 3000г», удельный вес которых составлял 73-74%, и существенных изменений структуры умерших по массе тела в течение 90-х годов не происходило. Начиная с 2000г. - при наиболее интенсивных темпах снижения МС и прежде всего ранней неонатальной смертности - наблюдается парадоксальная динамика структуры умерших по весовым категориям: число погибших физиологической весовой группы («3000г и более») стало увеличиваться с 25,9% от числа умерших в 1999 г. до 36,6% в 2009г. - при одновременном снижении доли детей низкой и относительно низкой массы тела (1000-2999г) с 74,1 до 63,4% за те же годы.
(Дети массой тела 2500-2999г, преимущественно с задержкой внутриутробного развития, хотя и не относятся к маловесным по классическим критериям, в отношении динамики смертности и мертворождаемости ведут себя так же, как и маловесные менее 2500г – что было показано нами ранее .)
6. В непосредственной связи с уменьшением доли маловесных новорожденных среди всех умерших находится изменение структуры ранней неонатальной смертности по гестационному возрасту умерших – рост доли доношенных в структуре умерших в 0-6 суток с 32,2% в 1991г. до 42,6% в 2011г. - при уменьшении удельного веса недоношенных детей. Снижение показателя ранней неонатальной смертности в акушерском стационаре (с 7,7‰ до 2,2‰, или в 3,5 раза за 1991-2011гг. - по данным статистической формы №32) произошло за счет преимущественного уменьшения смертности недоношенных новорожденных (с 93,2‰ до 23,0‰, или в 4,2 раза за те же годы), притом что смертность доношенных детей за те же годы сократилась лишь в 2,6 раз – с 2,7 до 1,0‰. Насколько такая динамика правдоподобна – в свете отмеченных диспропорций вызывает очевидные сомнения и скорее всего связана с недорегистрацией недоношенных умерших детей.
Таким образом, снижение МС в России сопровождалось парадоксальной динамикой весовой и гестационной структуры умерших – т.е. преимущественным снижением смертности маловесных и недоношенных детей, что привело к диспропорциональным изменениям структуры МС.
Суммируя представленные сведения о фактах, вызывающих неустранимые сомнения в достоверности регистрируемых показателей МС и соответствии их фактическим, можно представить индикаторы искажения и фальсификации показателей младенческой смертности следующим образом.
Индикаторы фальсификации показателей МС:
- колебания показателей МС по годам, превышающие 5%;
- доля умерших детей и родившихся мертвыми массой тела 1000-1499г больше их доли в весовой группе 500- 999г;
- доля мертворождаемости в структуре перинатальной смертности в весовой категории 1000-1499 меньше, чем в весовой категории 500- 999г;
- «старение» младенческой и неонатальной смертности – относительный рост старших возрастных групп (постнеонатальной и поздней неонатальной) при уменьшении младших;
- продолжающийся рост доли доношенных детей и детей физиологической массы тела в структуре умерших новорожденных.
При переходе на регистрацию случаев рождения и смерти детей ЭНМТ могут потерять силу ряд указанных индикаторов и появиться новые. Например, занижение массы тела умершего ребенка или мертворожденного ЭНМТ менее 500г, т.е. отнесение его к поздним выкидышам. Так, при регистрации детей с ЭНМТ за последние три года детального их учета наблюдается несоответствие числа родившихся по сроку гестации и по массе тела. В 2011г. число родившихся массой тела 500-999г (15692) меньше числа плодов родившихся в сроке 22-27 недель беременности (16702, по статистической форме №32), то есть 1010 плодов (6,4%), родившихся в сроки 22-27 недель беременности, имели массу тела менее 500г и не были зарегистрированы как дети. Видимо, с этой проблемой регистрации, известной нам по прежним временам (когда «критической» для учета/неучета была масса тела плода 1000г), придется столкнуться при переходе на новые критерии рождения - на новом пороговом значении массы тела плода (500г).
Принципиально возможны два механизма занижения показателя младенческой смертности – «переброс» умерших детей в мертворожденные, к сожалению, не учитываемые в государственно значимой статистике репродуктивных потерь, или отнесение умершего ребенка к нерегистрируемым в младенческой и перинатальной смертности «плодам» («выкидышам»). Однако, зная пути и возможности недоучета числа случаев и показателя МС, можно рассчитать ее долженствующий уровень с использованием различных методов . Выявляются оба «механизма» фальсификации МС по объективным данным – на основании анализа структурных диспропорций числа живорожденных и мертворожденных, по диссоциации весовой структуры умерших – исчезновению детей пограничной массы тела (1000-1499г), «перебрасываемых» в нерегистрируемые «плоды». К объективным показателям «переброса» живорожденных детей в мертворожденные относится и отсутствие (или неадекватно малое число) умерших в первые 24 часа после рождения, что особенно распространено в «пограничной» весовой категории между «плодами» и «детьми» – 1000-1499г. При анализе характера распределения умерших детей по массе тела - на гистограмме наблюдается «провал» соответствующей неучтенной весовой категории детей очень низкой массы тела. В долгосрочной динамике структуры умерших детей по массе тела наблюдается уменьшение числа «маловесных» при увеличении числа детей физиологической массы тела, что мы и наблюдаем в России после 2000-года.
3. Оценка младенческой смертности в России в 2011 г. по методу Dellaportas G. J.
В авторитетных зарубежных исследованиях применяется методология обоснованного определения реального показателя МС, базирующаяся на закономерном соотношении показателей смертности в различные периоды первого года жизни ребенка. В 1972 году Dellaportas G.J. предложил метод оценки МС в странах, где предположительно возможна недорегистрация случаев смерти детей на первом году жизни . Автор исходил из того, что в возрасте 181-355 дней (6 месяцев-1 год) смертность детей регистрируется достаточно полно и не зависит от различий в процедуре регистрации и использования разных критериев живорождения. По данным 16 стран, в которых регистрация по международным стандартам проводится более 30 лет, и следовательно может считаться достоверной, были выявлены корреляционные зависимости между уровнями смертности на 1 день жизни, 1-6, 7-27, 28-180 днях (I-IV периоды), с одной стороны, и на 6-12 месяцах (V период), с другой. Далее автором выведена формула определения реального уровня младенческой смертности в стране, для которой проводится экспертиза полноты регистрации:
У=y 1 +в * (х – x 1 ) , где
У
- оценочный показатель смертности I-IV возрастных групп;
y 1
- средний показатель смертности по 16 странам в I-IV возрастных группах;
в
- поправочный коэффициент для каждой возрастной группы;
х
-показатель смертности на VI-ХII месяцах жизни в проверяемой стране;
x 1
-показатель смертности на VI-ХII месяцах жизни в среднем в 16 странах.
Таким образом, для расчета МС по Dellaportes необходимы следующие данные: число родившихся и умерших детей (отдельно мальчиков и девочек) по возрастным периодам первого года жизни.
В таблице 3 представлены все эти данные по РФ в 2011 г.
Далее проводится расчет показателей смертности по возрастным периодам первого года жизни путем деления числа умерших на число детей данной возрастной группы и умножения на 1000. Предложенная автором методика основана на расчете показателя с учетом пола ребенка – раздельно для мальчиков и девочек, что затрудняет применение метода на практике.
В таблице 3 приведены расчеты оценочных показателей МС в РФ по методу Dellaportas. Средний показатель смертности по 16 странам в I-IV возрастных группах (y 1) и поправочный коэффициент для каждой возрастной группы (в) являются установленными постоянными величинами. В следующий столбец (РП) вносятся расчетные данные. Далее из расчетных показателей (РП) вычитаются данные среднего показателя (y 1) и вносятся в столбец (х-x 1). Показатель ОП получается путем сложения y 1 +в*(х-x 1), из которого вычитают расчетные показатели (РП). На практике применяется готовая формула расчета показателей по Dellaportas G. J.
Таблица 3
Оценка МС по методу Dellaportas G. J. (РФ, 2011)
| Умерло | Мальчики | Девочки | Родилось | Мальчики | Девочки |
| 0 дней | 821 | 692 | 0 дней | 905485 | 857011 |
| 1-6 дней | 2217 | 1458 | 1-6 дней | 904559 | 856230 |
| 7-27 дней | 1335 | 978 | 7-27 дней | 902061 | 854587 |
| 28 дней - 6 мес | 2435 | 1897 | 28 дней - 6 мес | 900555 | 853485 |
| 6 мес - 1 год | 697 | 629 | 6 мес - 1 год | 897811 | 851346 |
| 0-1 год | 7511 | 5657 | |||
| Всего | 13168 | Всего | 1762496 | ||
В таблице 4 приведены расчеты оценочных показателей МС в РФ по методу Dellaportas G. J.
Таблица 4
Расчет МС по методу Dellaportas G. J. (РФ, 2011)
Исходные данные для расчета МС по Dellaportas G. J.
| Умерло | Мальчики | Девочки | Родилось | Мальчики | Девочки |
| 0 дней | 821 | 692 | 0 дней | 905485 | 857011 |
| 1-6 дней | 2217 | 1458 | 1-6 дней | 904559 | 856230 |
| 7-27 дней | 1335 | 978 | 7-27 дней | 902061 | 854587 |
| 28 дней - 6 мес | 2435 | 1897 | 28 дней - 6 мес | 900555 | 853485 |
| 6 мес - 1 год | 697 | 629 | 6 мес - 1 год | 897811 | 851346 |
| 0-1 год | 7511 | 5657 | |||
| Всего | 13168 | Всего | 1762496 | ||
| у1 | в | РП | х-х1 | ОП (У) | ОП-РП | |
| мальчики | ||||||
| 0 дней | 8,66 | 1,933 | 0,91 | -1,35 | 6,06 | 5,15 |
| 1-6 дней | 7,41 | 0,846 | 2,45 | -1,35 | 6,27 | 3,82 |
| 7-27 дней | 2,38 | 1,08 | 1,48 | -1,35 | 0,93 | -0,55 |
| 28 дней - 6 мес | 6,47 | 2,418 | 2,70 | -1,35 | 3,22 | 0,52 |
| 6 мес - 1 год | 2,12 | 0,77 | ||||
| 0-1 год | 25,1 | 8,37 ‰ | 8,94 ‰ | |||
| девочки | ||||||
| 0 дней | 6,76 | 1,325 | 0,81 | -1,36 | 4,96 | 4,15 |
| 1-6 дней | 5,34 | 0,753 | 1,70 | -1,36 | 4,32 | 2,61 |
| 7-27 дней | 1,96 | 0,947 | 1,14 | -1,36 | 0,67 | -0,47 |
| 28 дней - 6 мес | 4,88 | 2,08 | 2,22 | -1,36 | 2,05 | -0,17 |
| 6 мес - 1 год | 2,09 | 0,74 | ||||
| 0-1 год | 20,54 | 6,64 ‰ | 6,13 ‰ | |||
| недоучет показателя младенческой смертности - 7,6%о (МС= 7,4+7,6=15,0‰) | ||||||
| у1 | в | РП | х-х1 | ОП (У) | ОП-РП | |
| мальчики | ||||||
| 0 дней | 8,66 | 1,933 | 0,91 | -1,35 | 6,06 | 5,15 |
| 1-6 дней | 7,41 | 0,846 | 2,45 | -1,35 | 6,27 | 3,82 |
| 7-27 дней | 2,38 | 1,08 | 1,48 | -1,35 | 0,93 | -0,55 |
| 28 дней - 6 мес | 6,47 | 2,418 | 2,70 | -1,35 | 3,22 | 0,52 |
| 6 мес - 1 год | 2,12 | 0,77 | ||||
| 0-1 год | 25,1 | 8,37 ‰ | 8,94 ‰ | |||
| девочки | ||||||
| 0 дней | 6,76 | 1,325 | 0,81 | -1,36 | 4,96 | 4,15 |
| 1-6 дней | 5,34 | 0,753 | 1,70 | -1,36 | 4,32 | 2,61 |
| 7-27 дней | 1,96 | 0,947 | 1,14 | -1,36 | 0,67 | -0,47 |
| 28 дней - 6 мес | 4,88 | 2,08 | 2,22 | -1,36 | 2,05 | -0,17 |
| 6 мес - 1 год | 2,09 | 0,74 | ||||
| 0-1 год | 20,54 | 6,64 ‰ | 6,13 ‰ | |||
| недоучет показателя младенческой смертности - 7,6‰ (МС= 7,4+7,6=15,0‰) | ||||||
Из таблицы 4 видно, что недоучет смертности среди мальчиков равнялся 8,94‰, среди девочек - 6,13‰ и в целом по России -7,6‰. Таким образом, показатель младенческой смертности в России в 2011 г. должен составлять 15 на 1000 родившихся живыми (вместо зарегистрированного уровня 7,4‰).
Кроме приведенного метода Dellaportas G.J., возможно воспроизведение (реконструирование) показателя МС: по соотношению неонатальной и постнеонатальной смертности; по показателям ожидаемой продолжительности жизни при рождении; по вероятности умереть до 5-ти-летнего возраста и другим. Предлагаем разработанный нами метод реконструирования показателя МС по уровню постнеонатальной смертности.
4. Реконструирование показателя младенческой смертности по постнеонатальной составляющей
Как известно, существуют два основных механизма занижения показателя младенческой смертности – во-первых, «переброс» умерших детей в мертворожденных, во-вторых, отнесение умершего ребенка к нерегистрируемым в МС и перинатальной смертности «плодам».
Понятно, что оба этих механизма фальсификации данных могут быть применены в отношении только детей первых дней жизни, и именно благодаря этому в динамике опережающими темпами снижается ранняя неонатальная смертность. (Хотя это противоречит известным биологическим закономерностям изменения МС). И устойчивая тенденция сокращения младенческой смертности за счет преимущественно детей первой недели жизни и относительное увеличение поздних потерь («старение» МС) – это нонсенс в здравоохранении, причем факторы, объясняющие подобное извращение структуры МС, понятны и известны всем участникам процесса – врачам, статистикам, организаторам здравоохранения и т.д.
Поскольку наиболее надежно регистрируемой компонентой МС является постнеонатальная смертность, а доля ее в России существенно выше, чем в странах ЕС, причем в максимальной степени превышает показатель в ЕС в сравнении с другими компонентами МС, нет оснований полагать, что другая составляющая МС – неонатальная - отличается от уровня в европейских странах в более благоприятную сторону. Тем более что именно неонатальная смертность более «управляема» - если уместно употребить этот термин, имея в виду большую подверженность ее директивным (субъективным) влияниям – императивному снижению для обеспечения позитивной динамики МС и достижения целевого показателя.
Исходя из того, что уровень младенческой и неонатальной смертности в России искусственно занижается за счет ранних неонатальных потерь и считая в то же время показатели постнеонатальных потерь и поздней неонатальной смертности более достоверными, можно, ориентируясь на должное соотношение постнеонатальных и неонатальных потерь в странах ЕС как более правильное, воспроизвести (реконструировать) соответствующие показатели младенческой и неонатальной смертности.
Как известно, принцип воссоздания показателя младенческой смертности, предложенный Dellaportas G.J., основан на использовании для расчета наиболее поздней составляющей смертности детей первого года жизни в возрасте 181-355 дней (6-11 месяцев) как максимально достоверно регистрируемой. Используя этот принцип, мы предлагаем способ верификации показателя младенческой смертности на основании показателя всей постнеонатальной смертности (28-365 дней), а реконструкцию неонатальной смертности - по уровню поздних неонатальных потерь (7-27 дня), являющихся наиболее надежными в плане регистрации случаев смерти новорожденных и в минимальной степени подверженными фальсификации.
С нашей точки зрения, реконструирование показателя младенческой смертности по постнеонатальной составляющей имеет преимущество перед методом Dellaportas G.J., поскольку в течение второго полугодия жизни умирает всего 10-11,7% детей от числа всех умерших на первом году, что бесспорно снижает точность полученного результата, распространяемого на всю младенческую смертность. В то же время доля умерших после первого месяца жизни (в постнеонатальном периоде) существенно выше - колеблется от 33% в странах с малыми младенческими потерями (в том числе в странах ЕС) до 60% в территориях с высоким уровнем смертности МС. В России число умерших после первого месяца жизни увеличивается от 37,1% в 1990г. до 43% от числа умерших младенцев в 2010 г. (табл.5).
Распределение числа умерших детей по месяцам первого года жизни в 1990-2010гг.
|
|
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
| до 1 мес | 22048 | 15166 | 11691 | 9446 | 7634 |
| 1 мес | 2458 | 2022 | 1714 | 1716 | 1705 |
| 2 мес | 2080 | 1530 | 1329 | 1103 | 972 |
| 3 мес | 1760 | 1363 | 1014 | 863 | 711 |
| 4 мес | 1450 | 1110 | 865 | 637 | 545 |
| 5 мес | 1178 | 852 | 622 | 538 | 481 |
| 6 мес | 990 | 723 | 540 | 439 | 321 |
| 7 мес | 836 | 543 | 447 | 337 | 297 |
| 8 мес | 699 | 468 | 336 | 303 | 234 |
| 9 мес | 637 | 420 | 281 | 250 | 198 |
| 10 мес | 464 | 312 | 255 | 233 | 166 |
| 11 мес | 462 | 270 | 181 | 188 | 130 |
| Всего умерших в возрасте до 1 года | 35062 | 24779 | 19275 | 16053 | 13394 |
|
Доля умерших после первого месяца жизни % (по абсолютным числам умерших младенцев) |
37,1 | 38,8 | 39,3 | 41,2 | 43,0 |
сумма строк не дает итога за счет умерших детей неустановленного возраста
Источник - статистические сборники МЗРФ "Смертность населения РФ 2000г., статистические материалы" М., 2001; «Медико-демографические показатели РФ, статистические материалы», М., 2006-2011.
Понятно, что при этом повышается достоверность получаемого результата, распространяемого на всю младенческую смертность. Применяемый Dellaportas G.J. раздельный расчет умерших по полу – учитывая фактически стабильное соотношение числа умерших мальчиков и девочек – не является определяющим фактором, в то же время существенно затрудняя применение метода на практике. И вообще, достаточно сложная формула автора и весьма трудоемкий анализ данных делает этот метод (при всей его полезности для научных и специальных демографических исследований) труднодоступным в практических целях.
В то же время принципиальная разница в точности регистрации умерших новорожденных первой недели жизни и второй-четвертой, а также младенцев старше месяца определяет целесообразность использования именно этих данных для верификации показателей младенческой и неонатальной смертности. В постнеонатальном периоде (28-365 дней) и даже в позднем неонатальном (7-28 дня) практически отсутствует возможность фальсификации данных о числе умерших детей – поскольку полностью исключается возможность их «переброса» в мертворожденные и минимизируется вероятность занижения массы тела ребенка (т.е. «переброс» его в «выкидыш») – поскольку масса тела ребенка за семь и более дней жизни уже многократно зарегистрирована не только в родильном блоке, но и в отделении новорожденных, реанимации, разными специалистами и родителями, в различных документах, картах наблюдения и т.д.
Основываясь на показателях постнеонатальных потерь (в возрасте старше 27 дней) и поздних неонатальных (старше 7 дней, более достоверных в сравнении с первой неделей жизни), и принимая за своего рода «эталон» соотношение этих составляющих в странах Евросоюза (табл. 6,7), мы предлагаем собственную модель перерасчета показателя МС по уровню постнеонатальных потерь, а неонатальной смертности – по показателю поздних неонатальных потерь - путем составления соответствующей пропорции.
Если показателю постнеонатальной смертности 1,4 в ЕС соответствует уровень младенческой 4,1, то при постнеонатальной смертности в России 3,3 уровень младенческой смертности должен быть 9,8, что выше зарегистрированного на 28,5%. Коэффициент для расчета младенческой смертности по постнеонатальной составляющей равен 2,96. (Коэффициенты и показатели в таблицах были рассчитаны при большей точности – до второго знака, исключенного в данной таблице 6).
Таблица 6
Показатели младенческой и постнеонатальной смертности в РФ и ЕС; расчет верифицированного показателя младенческой смертности в РФ
| год | Младенческая смертность | Постнеонатальная смертность | Соотношение постнеонатальной и младенческой смертности в ЕС | Реконструированный показатель младенческой смертности в РФ | Разница реконструированного и зарегистрированного показателя МС в РФ | Расчетный коэффициент для показателя младенческой смертности по постнеонатальнойннс | |||
| РФ | ЕС | РФ | ЕС | на 1000 родившихся живыми | % | ||||
| 1995 | 18,2 | 7,5 | 7,2 | 2,7 | 0,36 | 19,9 | 1,7 | 9,07 | 2,75 |
| 1996 | 17,5 | 7,2 | 6,7 | 2,7 | 0,37 | 17,9 | 0,4 | 2,02 | 2,68 |
| 1997 | 17,3 | 6,8 | 6,8 | 2,5 | 0,38 | 18,0 | 0,8 | 4,45 | 2,67 |
| 1998 | 16,4 | 6,5 | 6,3 | 2,4 | 0,37 | 17,1 | 0,6 | 3,74 | 2,70 |
| 1999 | 17,1 | 6,1 | 7,3 | 2,2 | 0,36 | 20,0 | 2,9 | 17,01 | 2,74 |
| 2000 | 15,2 | 5,9 | 6,2 | 2,1 | 0,36 | 17,0 | 1,8 | 11,59 | 2,76 |
| 2001 | 14,6 | 5,8 | 5,9 | 2,1 | 0,36 | 16,3 | 1,8 | 12,13 | 2,76 |
| 2002 | 13,2 | 5,5 | 5,2 | 1,9 | 0,35 | 14,8 | 1,6 | 11,92 | 2,86 |
| 2003 | 12,4 | 5,3 | 5,0 | 1,8 | 0,35 | 14,3 | 2,0 | 15,87 | 2,87 |
| 2004 | 11,5 | 5,1 | 4,7 | 1,7 | 0,34 | 13,9 | 2,4 | 20,61 | 2,94 |
| 2005 | 11,0 | 4,9 | 4,7 | 1,7 | 0,34 | 13,7 | 2,7 | 24,21 | 2,93 |
| 2006 | 10,2 | 4,6 | 4,1 | 1,6 | 0,34 | 12,2 | 2,0 | 19,67 | 2,97 |
| 2007 | 9,2 | 4,5 | 3,9 | 1,5 | 0,33 | 11,8 | 2,5 | 27,33 | 3,01 |
| 2008 | 8,4 | 4,3 | 3,7 | 1,4 | 0,33 | 11,0 | 2,6 | 31,21 | 2,99 |
| 2009 | 8,1 | 4,2 | 3,5 | 1,4 | 0,34 | 10,4 | 2,3 | 28,72 | 2,98 |
| 2010 | 7,6 | 4,1 | 3,3 | 1,4 | 0,34 | 9,8 | 2,2 | 28,51 | 2,96 |
По соответствующему расчету показатель неонатальной смертности в 2010 г. составлял не 4,2 на 1000 живорожденных, а 5,1 (выше на 20,9%). Коэффициент пересчета составляет 3,63 в отношении поздней неонатальной смертности (1,4 в 2010 г.).
Характерно, что в динамике за представленные 15 лет разница реконструированного и официально зарегистрированного показателя имеет тенденцию к увеличению – наиболее четко выявленную в отношении неонатальной смертности.
Таблица 7
Показатели неонатальной и поздней неонатальной смертности в РФ и ЕС; расчет верифицированного показателя неонатальной смертности в РФ
| год | Неонатальная смертность | Поздняя неонатальная смертность | Соотношение поздней неонатальной и неонатальной смертности в ЕС | Реконструированный показатель неонатальной смертности в РФ | Разница реконструированного и зарегистрированного показателя ННС в РФ | Расчетный коэффициент для показателя неонатальной смертности по поздней неонатальной | |||
| РФ | ЕС | РФ | ЕС | на 1000 родившихся живыми | % | ||||
| 1995 | 11,00 | 4,77 | 2,5 | 1,17 | 0,25 | 10,2 | -0,81 | -7,3 | 4,08 |
| 1996 | 10,83 | 4,51 | 2,7 | 1,12 | 0,25 | 10,9 | 0,04 | 0,4 | 4,03 |
| 1997 | 10,49 | 4,25 | 2,6 | 1,13 | 0,27 | 9,8 | -0,71 | -6,8 | 3,76 |
| 1998 | 10,13 | 4,06 | 2,6 | 1,1 | 0,27 | 9,6 | -0,53 | -5,3 | 3,69 |
| 1999 | 9,77 | 3,89 | 2,87 | 1,06 | 0,27 | 10,5 | 0,76 | 7,8 | 3,67 |
| 2000 | 9,07 | 3,76 | 2,5 | 1,04 | 0,28 | 9,0 | -0,03 | -0,3 | 3,62 |
| 2001 | 8,65 | 3,68 | 2,5 | 1,03 | 0,28 | 8,9 | 0,28 | 3,3 | 3,57 |
| 2002 | 8,01 | 3,53 | 2,3 | 0,99 | 0,28 | 8,2 | 0,19 | 2,4 | 3,57 |
| 2003 | 7,38 | 3,42 | 2,1 | 0,94 | 0,27 | 7,6 | 0,26 | 3,5 | 3,64 |
| 2004 | 6,81 | 3,39 | 2 | 0,93 | 0,27 | 7,3 | 0,48 | 7,1 | 3,65 |
| 2005 | 6,36 | 3,20 | 1,9 | 0,89 | 0,28 | 6,8 | 0,47 | 7,4 | 3,60 |
| 2006 | 6,10 | 3,09 | 1,9 | 0,86 | 0,28 | 6,8 | 0,73 | 11,9 | 3,59 |
| 2007 | 5,40 | 2,99 | 1,6 | 0,82 | 0,27 | 5,8 | 0,43 | 8,0 | 3,65 |
| 2008 | 4,80 | 2,86 | 1,5 | 0,81 | 0,28 | 5,3 | 0,50 | 10,3 | 3,53 |
| 2009 | 4,60 | 2,83 | 1,5 | 0,78 | 0,28 | 5,4 | 0,84 | 18,3 | 3,63 |
| 2010 | 4,20 | 2,72 | 1,4 | 0,75 | 0,28 | 5,1 | 0,88 | 20,9 | 3,63 |
Анализ динамики официально зарегистрированных и реконструированных показателей младенческой и неонатальной смертности в России – в сопоставлении с соответствующими данными по странам Евросоюза – в 1996-2010 гг. подтверждает тезис об увеличении уровня фальсификации данных в последние годы (что было показано по нарастающим темпам снижения показателей младенческой и неонатальной смертности – до нереальных величин).
Таким образом, для верификации показателей, регистрируемых в регионах, можно пользоваться предлагаемым методом реконструкции показателя младенческой смертности (основываясь на соотношении постнеонатальной составляющей в структуре младенческих потерь) и неонатальной смертности (исходя из уровня поздней неонатальной смертности).
На рис.12 представлена динамика официально зарегистрированных и реконструированных показателей МС в России – в сопоставлении с соответствующими данными по странам Евросоюза – в 1995-2010 гг.

Рис. 12. Динамика показателей младенческой смертности в РФ, странах ЕС (по данным ВОЗ/ЕРБ) и реконструированного показателя по уровню постнеонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми)
Как видно на рисунке, кривые официально зарегистрированных и реконструированных показателей МС в России – в сопоставлении с соответствующими данными по странам Евросоюза – в 1995-2010 гг. «расходятся» в динамике, что подтверждает тезис об увеличении степени фальсификации данных в последние годы (что было показано по нарастающим темпам снижения показателей МС – до нереальных величин, извращении возрастной и весовой структуры умерших ит.д.).
Таким образом, для верификации показателей, регистрируемых в регионах, можно пользоваться предлагаемым методом реконструирования показателя младенческой смертности (основываясь на соотношении постнеонатальной составляющей в структуре младенческих потерь) и неонатальной смертности (исходя из уровня поздней неонатальной смертности).
При сравнении официально зарегистрированного показателя МС и реконструированного выявлено, что в целом по России в 2010 г. показатель вместо 7,5‰ достигает уровня 9,7‰ (т.е. на 28,9% выше). При этом в некоторых регионах уровень МС по реконструированному показателю превышает официально зарегистрированный на 50-80% (Иркутская и Кемеровская области, Забайкальский край, республика Бурятия) и достигает 14-20‰, превышая уровень в России в 1,5-2 раза (табл.8).
Таблица 8
Регионы с максимальным уровнем реконструированного показателя младенческой смертности в сравнении с официально зарегистрированным в 2010 г.
|
|
Младенческая
смертность
- официально зарегистрирован-
ный показатель (ОЗ-МС) |
Неонаталь-
ная смертность на 1000 р.ж. |
Постнеона-
тальная смертность на 1000 р.ж. |
Реконструиро- ванный показатель (Р-МС) |
Разница Р-МС И ОЗ-МС (%) |
| Республика Тыва | 13,0 | 6,2 | 6,8 | 19,9 | 53,2 |
| Иркутская область | 9,8 | 4,1 | 5,7 | 16,7 | 70,3 |
| Хабаровский край | 10,5 | 5,2 | 5,3 | 15,5 | 47,8 |
| Еврейская АО | 10,4 | 5,4 | 5,0 | 14,6 | 40,8 |
| Магаданская обл. | 9,3 | 4,4 | 4,9 | 14,4 | 54,3 |
| Кемеровская область | 8,3 | 3,5 | 4,8 | 14,1 | 69,4 |
| Респ. Ингушетия | 12,8 | 8,1 | 4,7 | 13,8 | 7,5 |
| Республика Хакасия | 8,5 | 3,7 | 4,7 | 13,8 | 61,9 |
| Забайкальский край | 7,4 | 2,7 | 4,7 | 13,8 | 86,0 |
| Курганская область | 8,7 | 4,1 | 4,6 | 13,5 | 54,8 |
| Красноярский край | 9,2 | 4,5 | 4,6 | 13,5 | 46,4 |
| Алтайский край | 9,4 | 5,0 | 4,5 | 13,2 | 40,2 |
| Камчатский край | 9,4 | 4,9 | 4,5 | 13,2 | 40,2 |
| Республика Бурятия | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 12,3 | 70,8 |
| Россия | 7,5 | 4,2 | 3,3 | 9,7 | 28,9 |
При сравнительном анализе степени превышения реконструированного показателя МС над официально зарегистрированным выявлены регионы, где разница показателей достигала двукратного значения – например в Чувашской республике - 10,8‰ по реконструированному показателю при 5,4‰ по официально зарегистрированному в 2010 г. (табл.9).
Таблица 9
Регионы с максимальным превышением реконструированного показателя младенческой смертности над официально зарегистрированным в 2010 г.
|
|
Младенческая смертность - официально зарегистрированный показатель (ОЗ-МС) | Неонатальная смертность на 1000 р.ж. | Постнеонатальная смертность на 1000 р.ж. | Реконстуированный показатель (Р-МС) | Разница Р-МС И ОЗ-МС (%) |
| Чувашская Республика | 5,4 | 1,7 | 3,7 | 10,8 | 100,7 |
| Забайкальский край | 7,4 | 2,7 | 4,7 | 13,8 | 86,0 |
| Республика Коми | 5,0 | 2,1 | 3,0 | 8,8 | 75,7 |
| Республика Бурятия | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 12,3 | 70,8 |
| Иркутская область | 9,8 | 4,1 | 5,7 | 16,7 | 70,3 |
| Кемеровская область | 8,3 | 3,5 | 4,8 | 14,1 | 69,4 |
| Г. Санкт-Петербург | 4,7 | 2,0 | 2,7 | 7,9 | 68,2 |
| Тюменская область | 6,2 | 2,6 | 3,5 | 10,3 | 65,3 |
| Сахалинская область | 5,9 | 2,7 | 3,3 | 9,7 | 63,8 |
| Свердловская область | 6,1 | 2,6 | 3,4 | 10,0 | 63,2 |
| Калининградская область | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 7,3 | 62,7 |
| Новосибирская область | 7,4 | 3,3 | 4,1 | 12,0 | 62,3 |
| Россия | 7,5 | 4,2 | 3,3 | 9,7 | 28,9 |
При этом во всех анализируемых регионах (кроме Иркутской области) официально зарегистрированный уровень МС был ниже общероссийского, преимущественно за счет малой неонатальной смертности, в то время как постнеонатальная в 7 из 12 регионов превышала показатель в России.
Второй особенностью регионов с некорректной регистрацией МС является то, что в 10 регионах (кроме Забайкальского края и Тюменской области) в 2010 г. отмечено снижение официально зарегистрированного показателя МС в сравнении с 2009г. (максимально выраженное в Калининградской области, где произошло снижение показателя в 1,6 раз за один год - с 7,1‰ в 2009г. до 4,5 в 2010).
Таким образом, анализ МС с применением реконструированного показателя позволяет выявить признаки некорректной регистрации МС.
5. Методика расчета младенческой смертности в соответствии с критериями живорождения и мертворождения, рекомендованными ВОЗ
Переход России на критерии живорождения и мертворождения, рекомендованные ВОЗ, сопровождается изменением методики расчета показателей младенческой смертности и ее составляющих (неонатальной, ранней и поздней, а также постнеонатальной).
Как известно, до марта 2012 г. в органах ЗАГС и в государственной статистике в числе родившихся живыми учитывались дети массой тела при рождении 1000г и более (или, если масса неизвестна, длиной тела 35 см и более либо рожденные при сроке беременности 28 недель и более), включая живорожденных массой тела менее 1000 г при многоплодных родах. При этом все родившиеся массой тела от 500 до 999 г подлежали регистрации в органах ЗАГС в тех случаях, если они прожили после рождения более 168 часов (7 суток).
В соответствии с Приказом МЗСР № 1687 от 27 декабря 2011 г., «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи» , вступившим в силу с 15 марта 2012 г. (после регистрации Приказа в Минюсте, №23490), утверждены новые медицинские критерии рождения, к которым относятся: 1) срок беременности 22 недели и более; 2) масса тела ребенка при рождении 500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных родах); 3) длина тела ребенка при рождении 25 см и более (в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна).
В соответствии с новыми критериями живорождения и мертворождения, в органах ЗАГС подлежат регистрации все родившиеся массой тела от 500г и более (или менее 500г при многоплодных родах) длиной тела при рождении 25 см и более (в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна) или при сроке беременности 22 недели и более.
При расчете показателей младенческой смертности всех возрастных периодов жизни ребенка первого года в числителе учитывается число умерших детей соответствующего возраста, включая родившихся массой тела 500г и более. В знаменателе учитывается число родившихся живыми также с учетом живорожденных детей массой тела 500г и более.
В 2011 г. родилось живыми 1796629 детей массой тела «1000г и более» и 5106 детей экстремально низкой массы тела (ЭНМТ) 500-999г, что в сумме составило 1801735 живорожденных. Умерло в возрасте до года 13168 детей массой тела «1000г и более» в сумме с родившимися ЭНМТ (500-999 г), прожившими более 168 часов (7 суток).
Из числа родившихся живыми 5106 детей ЭНМТ умерло всего 2753 (из них 2371 в акушерских стационарах и 382 в детских больницах), в том числе умерли в возрасте 168 часов (0-6 суток) 2251 ребенок (2106 в акушерских стационарах и 145 в детских больницах), и именно они (и только они) не были учтены в показателе МС - согласно прежним критериям учета родившихся и умерших. Число умерших детей ЭНМТ, «переживших» 7 суток после рождения, составило (2753-2251=502 ребенка), которые уже вошли в число 13168 как пережившие перинатальный возраст, составив 3,8% от числа умерших по старым критериям учета.
Следовательно, число всех умерших до года сегодня должно увеличиться с 13168 (по старым критериям учета) на 2251 умерших в возрасте 0-6 суток жизни детей ЭНМТ, неучтенных в прежнем показателе МС. Сумма всех умерших младенцев по новым правилам учета составит при этом 15419 (т.е. 13168+2251) детей. Число умерших детей ЭНМТ (2753 ребенка) составит в структуре всех умерших (15419) 17,8%.
Показатель младенческой смертности с учетом умерших детей ЭНМТ составит 8,56 на 1000 родившихся живыми, что выше прежнего показателя (7,33‰ по приведенным расчетным данным – 13168 умерших на 1796629 живорожденных) на 16,8%.
Показатель ранней неонатальной смертности составит: 4811 (число умерших массой тела «1000г и более» согласно форме А05) плюс умершие в возрасте 0-6 суток 2251 ребенок массой тела «500-999г» (2106 в акушерских стационарах, согласно форме ГСН№32, и 145 детей - в детских больницах, согласно форме ГСН №14), т.е. 7062 ребенка. Показатель ранней неонатальной смертности составит при этом частное от деления 7062 на 1801735, умноженное на 1000 = 3,92‰ (т.е. увеличится на 46,3% в сравнении с показателем 2,68 при учете только детей массой тела «1000г и более»). Неонатальная смертность увеличится с 4,25‰ до 5,48‰, или на 29,0%.
Понятно, что в наибольшей степени возрастает показатель ранней неонатальной смертности (на 46,3%), в меньшей – неонатальной (на 29,0%) и в еще меньшей – младенческой (на 16,8%).
Показатели поздней и постнеонатальной смертности не изменятся, поскольку они и ранее включали число умерших детей массой менее 1000г, переживших перинатальный период (168 часов).
Максимально – более чем в два раза - увеличится мертворождаемость – поскольку число родившихся мертвыми массой тела 500-999г (10586 в 2011 г. - согласно форме ГСН №32) превышает число мертворожденных массой тела «1000г и более» - 8181 по форме №32 и 8109 по форме А05. (Расхождение данных ведомственной и государственной статистики в отношении числа мертворождений обусловлено неполной регистрацией в ЗАГСе родившихся мертвыми.) При этом очевидно, что в условиях усиления контроля за достоверностью регистрации признаков живорождения возможно уменьшение числа родившихся мертвыми при одновременном увеличении умерших в раннем неонатальном периоде.
И недаром за рубежом был предложен показатель «фетоинфантильных потерь», включающий сумму мертворожденных и умерших на первом году жизни . К сожалению, данный показатель не получил широкого распространения в России и применяется лишь в научных исследованиях .
Таким образом, суммируя приведенные данные, можно сформулировать алгоритм оценки достоверности регистрации МС следующим образом.
Алгоритм оценки достоверности регистрации и расчет уровня МС
- Анализ общего показателя МС: колебания по годам не более 5%; соотношение долей ранней неонатальной, неонатальной и постнеонатальной смертности; удельный вес умерших в первые 24 часа после рождения.
- Анализ смертности детей по весовым группам: доля родившихся живыми и мертвыми массой тела 500-999г и 1000-1499г среди всех новорожденных; доля детей этих весовых групп среди родившихся живыми; среди родившихся мертвыми; соотношение живых и мертвых; доля «маловесных» детей в структуре МС; доля детей, умерших в первые 24 часа; доля детей, умерших в первые 168 часов.
- Анализ структуры и уровня перинатальных потерь: соотношение ранней неонатальной смертности и мертворождаемости по весовым группам; соотношение доношенных и недоношенных в перинатальной смертности.
- Расчет долженствующего уровня МС различными методами: с учетом «переброса» умерших в возрасте до 0-6 суток в категорию мертворожденных; с учетом долженствующего числа умерших по весовым группам; с учетом умерших детей ЭНМТ; по методу Dellaportas G.J.; расчет младенческой смертности по уровню постнеонатальной.
Заключение
Всего за постсоветский период 1991-2011 гг. в России - согласно данным Росстата, родилось живыми 31.162.646 детей, или пятая часть (21,8%) всего населения сегодняшней России. Умерло в возрасте первого года жизни 420389 детей. Число мертворожденных составило за эти годы 202894. Фетоинфантильные потери (родившиеся мертвыми и умершие до года) составили 623283 ребенка - 20,3 на 1000 родившихся (или 2,0%). Т.е. мы потеряли за последние 20 лет каждого 50-ого – за счет умерших на первом году жизни или родившихся мертвыми. С позиций потенциальной демографии – с учетом «несостоявшихся рождений в последующих поколениях» - это недопустимо высокие, безвозвратные потери репродуктивного потенциала страны, причем в подавляющем большинстве случаев смерть была предотвратима. Из всех 420389 умерших до года 186259 детей (44,3%) погибли на первой неделе жизни, и это определяет особую важность службы родовспоможения в снижении младенческой смертности.
Понятно, что для выявления истинных резервов улучшения ситуации и разработки стратегии реального снижения МС необходима объективная оценка ситуации с анализом структуры и причин гибели детей и жизнеспособных плодов. В то же время в настоящее время с сожалением приходится констатировать несовершенство статистики перинатальной и младенческой смертности, а также недостоверность представляемой информации как о числе умерших детей, так и о причинах их смерти. Результаты мониторинга младенческой смертности свидетельствуют о недостоверности представляемых сведений, причем степень недостоверности данных в динамике нарастает.
Наблюдающееся в течение 1991-2010 гг. преимущественное снижение ранней неонатальной смертности на 68,5% при уменьшении неонатальной на 61,8% и младенческой на 57,9% сопровождается диспропорцией структуры смертности по возрасту умерших детей, гестационному сроку (рост доли доношенных), массе тела новорожденных (относительный рост детей физиологической массы тела при уменьшении маловесных), что свидетельствует о существенных нарушениях в регистрации умерших детей.
При этом существуют вполне объективные и четко выявляемые признаки нарушений регистрации случаев смерти младенцев – по возрастной, весовой, нозологической, гестационной структуре смертности детей, темпам изменения показателей, соотношению разных составляющих, а также степени соответствия динамики репродуктивных потерь их структуре. Важнейшим признаком недостоверности регистрируемого уровня МС являются нереальные темпы снижения показателя. В связи с этим следует отметить важность обеспечения должного контроля достоверности показателей МС как жизненно важном факте, определяющем перспективы развития и эффективность службы охраны материнства и детства.
И сегодня, при переходе на новые критерии учета живорождения, возникает тот самый «час-икс», или момент Истины, когда можно и должно перестроиться на регистрацию реальных показателей репродуктивных потерь и МС. И актуальность проблемы достоверной регистрации и контроля учета умерших детей не исчезает в новых условиях.
Надо иметь ввиду, что недостоверность статистических данных всегда очевидна – по косвенным признакам, структурным диспропорциям числа живо- и мертворожденных, нарушению распределения умерших детей по возрасту, по диссоциации весовой структуры умерших и т.д. И те «улучшенные» показатели, которые обеспечиваются некорректной регистрацией умерших для достижения целевых показателей, на самом деле всегда видны, как очевидны и примененные методы фальсификации данных.
Как известно, уровень младенческой и неонатальной смертности в России искусственно занижается за счет детей 0-6 суток жизни - за счет «переброса» их или в мертворожденные, или в неучитываемые «плоды» («выкидыши»), и показатель постнеонатальных потерь более достоверен, чем уровень смертности новорожденных.
И именно на основе использования постнеонатальной составляющей как наиболее надежно регистрируемой основан предлагаемый метод реконструирования истинного уровня младенческой смертности. Представленный в настоящей работе механизм контроля достоверности представляемых сведений о младенческой смертности может быть применен для реальной оценки полноты и качества учета случаев смерти младенцев.
Список литературы
- Альбицкий В.Ю., Никольская Л.А., Абросимова М.Ю. Фетоинфантильные потери. Казань. 1997. 168 с.
- Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Смертность детского населения России. М.: Литерра; 2007. 328 с.
- Баранов А.А., Игнатьева Р.К. Проблема недоучета перинатальных потерь /Смертность детского населения России. Серия "Социальная педиатрия". Выпуск 1. М.: Литерра; 2007. С. 45-59.
- Горяинова И.Л. Медико-социальные проблемы младенческой смертности, пути её снижения и профилактики. Автореф. дис. канд. М. 2010. 24с.
- Приказ Минздравсоцразвития России №1687 от 27 декабря 2011г. (зарегистрирован в Минюсте РФ 15 марта 2012 г. №23490) О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи [Интернет]. URL: http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/1245 . Дата посещения 12 ноября 2012.
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 04 декабря 1992г. №318 "О переходе на рекомендованные Всемирной Организацией Здравоохранения критерии живорождения и мертворождения". [Интернет]. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MED;n=1971 (Дата посещения 12 ноября 2012).
- Сорокина З.Х. Проблемы перехода отечественного здравоохранения на международные критерии регистрации детей экстремальной массы тела //Проблемы управления здравоохранением. 2010. №5. С. 35-40.
- Стародубов В.И., Суханова Л.П., Сыченков Ю.Г. Репродуктивные потери как медико-социальная проблема демографического развития России //Социальные аспекты здоровья населения [Электронный научный журнал]. 2011. №6..)
- Стародубов В.И., Цыбульская И.С., Суханова Л.П. Охрана здоровья матери и ребенка как приоритетная проблема современной России //Современные медицинские технологии. 2009. №2. С. 11-16.
- Суханова Л.П. Оптимизация перинатальной помощи как важнейший фактор сохранения здоровья населения России: Дис. ... д-ра мед. наук. М. 2006. 335 с.
- Суханова Л.П., Скляр М.С. Детская и перинатальная смертность в России: тенденции, структура, факторы риска //Социальные аспекты здоровья населения [Электронный научный журнал]. 2007. №4. [Интернет]..
- Указ Президента РФ № 825 от 28 июня 2007г. (в редакции от 28.04.2008 и 13.05.2010-№579) "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ". [Интернет]. URL: http://www.referent.ru/1/120081 (Дата посещения 12 ноября 2012).
- Pediatrie 1990;(12):34-56.
- 1977;125(6):674.
- Health Services Reports 1972;87(3):275-281.
References
- Albitskiy V.Yu., Nikolskaya L.A., Abrosimova M.Yu. Fetoinfantilnyye poteri . Kazan. 1997. 168 p.
- Baranov A.A., Albitskiy V.Yu. Smertnost detskogo naseleniya Rossii . Moscow: Literra; 2007. 328 p.
- Baranov A.A., Ignatyeva R.K. Problema nedoucheta perinatalnykh poter . In: Smertnost detskogo naseleniya Rossii. Seriya "Sotsialnaya pediatriya". Vypusk 1. Moscow: Literra; 2007. P. 45-59.
- Goryainova I.L. Mediko-sotsialnyye problemy mladencheskoy smertnosti, puti eye snizheniya i profilaktiki . . Moscow. 2010. 24 p.
- Prikaz Minzdravsotsrazvitiya Rossii №1687 ot 27 dekabrya 2011g. (zaregistrirovan v Minyuste RF 15 marta 2012 g. №23490) "O meditsinskikh kriteriyakh rozhdeniya, forme dokumenta o rozhdenii i poryadke eye vydachi" ["On health criteria of the childbirth, the form of the birth certificate and the order of its registration", the Regulation of the MoH&SD of the RF №1687 of December 27 2011]. . 2011 . Available from: http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/1245
- Prikaz Ministerstva zdravookhraneniya RF ot 04 dekabrya 1992 g. №318 "O perekhode na rekomendovannyye Vsemirnoy Organizatsiyey Zdravookhraneniya kriterii zhivorozhdeniya i mertvorozhdeniya". . 1992 . Available from: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MED;n=1971
- Sorokina Z.Kh. Problemy perekhoda otechestvennogo zdravookhraneniya na mezhdunarodnyye kriterii registratsii detey ekstremalnoy massy tela . Problemy upravleniya zdravookhraneniyem 2010;(5):35-40.
- Starodubov V.I., Sukhanova L.P., Sychenkov Yu.G. Reproduktivnyye poteri kak mediko-sotsialnaya problema demograficheskogo razvitiya Rossii . Sotsialnyye aspekty zdorovya naseleniya . 2011;(6). . Available from: http://сайт/content/view/367/27/lang,ru/
- Starodubov V.I., Tsybulskaya I.S., Sukhanova L.P. Okhrana zdorovya materi i rebenka kak prioritetnaya problema sovremennoy Rossii . Sovremennyye meditsinskiye tekhnologii 2009;(2):11-16.
- Sukhanova L.P. Optimizatsiya perinatalnoy pomoshchi kak vazhneyshiy faktor sokhraneniya zdorovya naseleniya Rossii . Moscow. 2006. 335 p.
- Sukhanova L.P., Sklyar M.S. Detskaya i perinatalnaya smertnost v Rossii: tendentsii, struktura, faktory riska . Sotsialnyye aspekty zdorovya naseleniya . 2007;(4) . Available from: http://сайт/content/view/46/30/
- Ukaz Prezidenta RF № 825 ot 28 iyunya 2007g. (v redaktsii ot 28.04.2008 i 13.05.2010-№579) "Ob otsenke effektivnosti deyatelnosti organov ispolnitelnoy vlasti subyektov RF" ["On assessment of efficiency of executive bodies activity in the subjects of the Russian Federation", the Regulation of the President of the RF № 825 of June 28, 2007]. . 2007 . Available from: http://www.referent.ru/1/120081
- Blondel B., Breart G. Mortalite foeto-infantile. Evolution, causes et methods d’analise. Encycl. Med. Chir. (Paris-Franct). Pediatrie 1990;(12):34-56.
- Ewerbeck H. Neue Definition bei der Saulingssterblichkeit. Monatsschrift fur Kinderheilkunde 1977;125(6):674.
- Dellaportas G. J. Correlation-based estimation of early infant mortality. Health Services Reports 1972;87(3):275-281.
- Mathews TJ, MacDorman MF. Infant mortality statistics from the 2007 period linked birth/infant death data set. National vital statistics reports. . 2011;59(6). . Available from: www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr59/nvsr59_06.pdf.
|
В Российской Федерации ежегодно умирают более 30 тыс. детей и подростков в возрасте 0-19 лет. Их доля в общем числе смертей в стране снижается, в 2000 г. она составляла 4%, в 2009 г. - 1,5%.
После распада Советского Союза смертность детского населения приобрела в России выраженный тренд снижения. Причем наибольшие успехи в 1992-2011 гг. достигнуты в снижении смертности детей на 1-м году жизни (младенческая смертность) - с 18.0 до 7,3 на 1000 родившихся живыми, или в 2,5 раза. В возрасте 1-14 лет (детская смертность) и 15-19 лет (подростковая смертность) снижение было заметно меньше - соответственно с 64,4 до 38,8 и с 126,5 до 97,6 на 1000 детей соответствующего возраста, или в 1,7 и 1,3 раза.
Наибольший вклад в смертность детского населения вносит младенческая смертность - 46,7% (2009); на смертность детей в возрасте 1-14 лет приходилось 25%, на подростковую смертность - 28,3%. Соответствующий расклад в 1992 г. был иным: 52,5, 17,0 и 30,3%. Таким образом, несколько уменьшился удельный вес младенческой смертности и существенно выросло значение подростковой смертности. Следовательно, первоочередные меры по снижению смертности в РФ необходимо направить на младенческий и подростковый возраст.
В России сохраняются региональные различия в младенческой и подростковой смертности. Неблагополучные регионы по младенческой смертности - Дальневосточный, Сибирский и Южный федеральные округа, по подростковой смертности - Дальневосточный, Сибирский и Уральский ФО.
Младенческая смертность
Анализ динамики младенческой смертности (на первом году жизни) показал, что в первое 5-летие (1990-1994) ее уровень несколько повысился (на 4,4%), за второе 5-летие (1995-1999) снизился на 10%, за третье (2000-2004) снизился на 46,9%, в последние 5 лет снизился на 40,2% (табл. 2.6). Таким образом, разработанная в конце 1980-х - начале 1990-х гг. Министерствами здравоохранения СССР и РФ Стратегия снижения младенческой смертности дала превосходные результаты, особенно в последнее десятилетие.
Структура младенческой смертности по причинам не претерпела серьезных изменений (табл. 2.7). Ведущими причинами остаются болезни перинатального периода и врожденные пороки развития. Следовательно, курс на развитие пери-натологии и неонатологии, строительство современных перинатальных центров и использование в них эффективных технологий оправдывает себя и, без сомнения, обеспечит менее болезненный переход на международные критерии регистрации живорождения и мертворождения, когда обострится проблема выхаживания детей с экстремально низкой массой тела при рождении.
Вместе с тем анализ структуры причин младенческой смертности вызывает озабоченность:
В течение последних 5 лет не снижена смертность от экзогенных причин -фактически предотвратимых;
Рост смертности от травм и отравлений, неточно обозначенных причин и высокий уровень внебольничной летальности (в пределах 17%) свидетельствуют о возросшем значении социального фактора, что необходимо учитывать в программах снижения младенческой смертности.
Детская смертность
Анализ динамики детской смертности (в возрасте 1-14 лет) (табл. 2.8) и ее структуры по причинам (табл. 2.9) показывает:
В 1990-е гг. в РФ сохранялся стабильно высокий уровень (в пределах 60-70 случаев на 100 тыс.) смертности детей в возрасте 1-14 лет;
В течение первого 5-летия XXI в. детская смертность снизилась на 18,4%, в течение последних 5 лет - на 26,4%;
2002-2009 гг. ознаменовались заметным ускорением положительных тенденций за счет снижения смертности от экзогенных причин, инфекционных заболеваний, БОД.

Детская смертность в подавляющем большинстве случаев (более 50% у мальчиков и более 40% у девочек) обусловлена травмами и отравлениями. Рост значимости насильственных причин (убийства, самоубийства, повреждения с неопределенными намерениями) даже в благополучные 2002-2009 гг. свидетельствует о том, что груз социального неблагополучия, накопленного в 1990-е гг., далеко не исчерпан.
Смертность подростков
Анализ смертности детей в подростковом возрасте (15-19 лет) свидетельствует, что смертность подростков чутко реагирует на социальные потрясения (табл. 2.10). Кризис начала 1990-х привел к самому высокому уровню смертности в 1995 г. (161,9 случая на 100. тыс. детей в возрасте 15-19 лет), дефолт 1998 г. - к скачку в 2000 г., социально-экономическая стабилизация в стране в XXI в. -к медленному, но неуклонному снижению смертности подростков.


Вторая важная причина подростковой травматической смертности - самоубийства. В период реформ (1991 -2008) суицидальная смертность юношей выросла на 23.2%, девушек - на 28,1%.
В России крайне высока смертность от повреждений с неопределенными намерениями или повреждений без уточнений. В постсоветский период (1991-2008) смертность российских юношей от повреждений с неопределенными намерениями выросла на 21,2%. девушек - на 35,3%. Эти размытые причины маскируют значительную часть смертности от социально обусловленных и социально значимых причин - убийства и отравления наркотиками.
Анализ причин смертей подростков позволяет сделать вывод, что снижению подростковой смертности будет способствовать решение важных задач:
Организация профилактики детского травматизма;
Предотвращение формирования суицидального поведения у подростков:
Профилактика употребления подростками психоактивных веществ:
Создание эффективной системы оказания на всех этапах медицинской помощи детям при неотложных состояниях.
В прошлом выпуске Дайджеста урологии N3-2016 мы рассматривали вопрос материнской смертности. Младенческая смертность всегда считалась «чутким барометром» социального благополучия общества, по уровню которой, равно как и по величине продолжительности жизни, оценивают общее состояние здоровья и качество жизни населения и уровень социально-экономического развития и благополучия общества, в целом. В совокупности с уровнем материнской смертности он указывает на состояние репродуктивного здоровья населения, а также на состояние служб родовспоможения, педиатрии.
Статистика
Младенческая смертность характеризует смертность детей на первом году жизни. Смертность в возрасте до 1-го года намного превышает показатель смертности в большинстве возрастов: ее вероятность в этот период времени сопоставима с вероятностью смерти лиц, достигших 55 лет. При этом, как отмечает ВОЗ, на долю новорожденных приходится 40% всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет. Большинство всех случаев смерти в неонатальный период (75%) происходят на первой неделе жизни, а 25-45% из них - в течение первых 24 часов.
По классификации ВОЗ существует следующее распределение периодов младенческой смертности (рис.1):
Младенческая смертность характеризует смертность детей на первом году жизни. Смертность в возрасте до 1-го года намного превышает показатель смертности в большинстве возрастов: ее вероятность в этот период времени сопоставима с вероятностью смерти лиц, достигших 55 лет. При этом, как отмечает ВОЗ, на долю новорожденных приходится 40% всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет. Большинство всех случаев смерти в неонатальный период (75%) происходят на первой неделе жизни, а 25-45% из них - в течение первых 24 часов. По классификации ВОЗ существует следующее распределение периодов младенческой смертности (рис.1): перинатальный период (с 22 недели беременности по 7 сутки жизни (включая ранний неонатальный - с момента живорождения по 7 сутки - учитывая, что при расчете непосредственно неонатальной смертности в знаменателе находятся лишь родившиеся живыми, а перинатальной - все родившиеся, включая мертворожденных) поздний неонатальный период (с 8 по 28 сутки жизни) постнеонатальный период (до конца 1 года жизни)
Кроме того, отдельно выделяется период с 1 года жизни до достижения 5 лет, когда смерть классифицируется как «детская смертность».
Рис. 1. Терминология для классификации случаев смерти в период беременности и в раннем детском возрасте
Вычисление показателей
Алгоритмы вычисления показателя младенческой смертности:
Формула, принятая в органах государственной статистики в РФ (рис.2):
Однако в связи с тем, что ребенок может родиться в одном календарном году (например, в декабре 2015 г.), а умереть в другом календарном году (например, в январе 2016 г.), для определения показателя используют и следующий способ расчетов рис.3): Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 декабря 2008 г. N 782н "Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти" документами для регистрации младенческой смертности утверждены «Врачебное свидетельство о смерти» (ф. 106/у-08) и «Врачебное свидетельство перинатальной смерти» (ф. 106-2/у-08).

Рис. 2. Алгоритм вычисления коэффициента младенческой смертности, принятый в органах государственной статистики РФ

Рис. 3. Алгоритм ВОЗ вычисления коэффициента младенческой смертности по формуле Ратса
Динамика в России
В соответствии с последними данными, за первое полугодие 2015 г. показатель младенческой смертности в России достиг 6,6 на 1000 родившихся живыми. С учетом того, что данный показатель - лишь полугодовой, коэффициент действительно высок. Как отмечает глава Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов, «...такого роста младенческой смертности не было даже во время экономического кризиса 2008 года и в последующие годы».
Необходимо отметить, что динамика изменения коэффициента младенческой смертности в РФ все еще не стабильна. В различные период времени ФСГС РФ отмечает как его понижения, так и повышения (рис. 4).

Рис. 4. Динамика изменения коэффициента младенческой смертности в РФ в период 2008-2014 гг.
К примеру, в 2014 г. показатель младенческой смертности составил 7,4 на 1000, что ниже показателя за 2013 г. - 8,2 на 1000 родившихся живыми. При этом, как прокомментировал эти данные заместитель директора по научной работе ФГБУ Научного Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Дмитрий Дегтярев, снижение показателей младенческой смертности никогда не бывает синхронным во всех регионах. Так, в первом полугодии 2013 г. показатели младенческой смертности выше среднероссийских наблюдались в 25 регионах (30,11%), в первом полугодии 2014 г. - в 16 (18,8%), а за первую половину 2015 г. повышение показателей младенческой смертности были выше среднероссийского уровня в 20 из 85 регионов, составив 23,5%.

Рис. 5. Распределение по показателям младенческой смертности в РФ в зависимости от места проживания
Различен показатель младенческой смертности и в зависимости от проживания роженицы в городе или сельской местности (рис. 5). Как и в случае со статистикой ФСГС РФ по материнской смертности, показатели смертности среди сельского населения превышают показатели среди городского.
Младенческая смертность по регионам РФ
Как было отмечено выше, различны показатели младенческой смертности и по регионам. По данным ФСГС РФ о младенческой смертности по субъектам РФ за период январь-декабрь 2015 г., округа с наибольшим показателем младенческой смертности - Северо-Кавказский федеральный (11,9‰ за 2014 г. и 10,3‰ за 2015 г.) и Дальневосточный федеральный(9,1 ‰ за 2014 г. и 7,6‰ за 2015 г.). Округа по наименьшему показателю - Приволжский федеральный (7,2‰ за 2014 г. и 6,1‰ за 2015 г.) и Северозападный федеральный - (5,8‰ за 2014 г. и 5,3‰ за 2015 г.) (рис. 6)

Рис. 6. Младенческая смертность по субъектам РФ в 2014 и 2015 гг.
Периоды младенческой смертности
В рамках первого года человеческой жизни, который и рассматривает показатель младенческой смертности, выделяют три периода, различных как по вероятности смерти, так и по структуру доминирующей патологии.
Перинатальный период представляет собой отрезок времени от 22-й недели беременности до конца 7-х суток внеутробной жизни. Отдельно в нем выделяются интранатальный (от времени появления регулярных родовых схваток до момента перевязки пуповины - 6-8 часов) и ранний неонатальный периоды (с момента живорождения до 7х суток жизни). Разница: при расчете неонатальной смертности в знаменателе находятся лишь родившиеся живыми, при расчете перинатальной - включая мертворожденных. Этот период - важнейшее время жизни плода и новорожденного, отличающееся наибольшим риском смерти (с учетом того, что включает детей, родившихся недоношенными). На его долю приходится до 75% смертей на первом году жизни и до 40% всех случаев детской смертности до 5 лет. Величина данного показателя - особенно при межрегиональных и межгосударственных сопоставлениях - характеризует уровень репродуктивного здоровья матери, качество ее жизни, состояние родовспоможения и многие другие аспекты медицинского и социального развития. Также считается, что при резких колебаниях показателя динамика перинатальной смертности указывает на искажения статистического учета младенческой смертности, поскольку число умерших в этот период соотносится с общим числом родившихся - как живыми, так и мертвыми.
С 2012 г. Российская Федерация перешла на регистрацию рождения по критериям ВОЗ (срок беременности 22 недели и более, масса тела при рождении ребенка 500 г и более или менее 500 г при многоплодных родах; длина тела ребенка при рождении 25 см и более - в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна). Выхаживание таких детей представляет собой задачи нового уровня сложности и направляет на поиск решений для снижения плодовых потерь, инвалидности новорожденных и младенческой смертности.
Причины младенческой смертности в перинатальном периоде принято разделять на две группы:
- заболевания или состояние матери или последа, патология беременности и родов;
- заболевания и состояние плода
К первой группе причин относятся осложнения со стороны плаценты, пуповины и оболочек - преждевременная отслойка плаценты, патология пуповины и т.д.; такие осложнения беременности, как токсикозы второй половины беременности, преждевременное излитие околоплодных вод; непосредственно осложнения родов и родоразрешения.
Причинами перинатальной смертности со стороны ребенка в развивающихся странах являются: по 22,5% - асфиксия и родовая травма, 12,7% - врожденные пороки развития, 1,4% - инфекции. Развитые страны имеют более высокий удельный вес врожденных аномалий и более низкий - интранатальных причин и инфекции.
Неонатальный период - период жизни ребенка от момента рождения до достижения им 28 дней. В рамках неонатального периода выделяют два: ранний (1-я неделя жизни) и поздний (2-я - 4-я недели), которым соответствуют понятия и показатели ранней и поздней неонатальной смертности.
Основными причинами неонатальной смертности являются: врожденные пороки развития, родовые травмы, пневмонии новорожденных (исключая врожденную). Соотношение этих причин различается в зависимости от уровня жизни и состояния здравоохранения в части родовспоможения. Принципиальной особенностью младенческой смертности в России, качественно отличающей ее от показателей ЕС, является устойчивая тенденция снижения доли неонатальной смертности в пользу увеличения постнеонатальной. Эта особенность динамики показателя обусловлена т.н. «недорегистрацией» умерших новорожденных. Основные способы занижения показателя младенческой смертности - «переброс» умерших детей в мертворожденные, не учитываемые в государственной статистике, или отнесение умершего ребенка к нерегистрируемым в ЗАГСе «плодам» («выкидышам», к которым в отечественной медицине - до 2011 г. включительно - относились прерывания беременности в сроке до 27 полных недель). На практике эти два «механизма» выявляются на основании очевидных структурных диспропорций числа живои мертворожденных, а также по диссоциации весовой структуры умерших - исчезновению детей пограничной массы тела (1000-1499г), «перебрасываемых» в нерегистрируемые «плоды».
Третьим периодом, который выделяется в рамках первого года жизни, является постнеонатальный - начиная с 29-го дня жизни и до достижения 1 года, для которого рассчитывается соответствующий ему показатель постнеонатальной смертности. Среди основных причин постнеонатальной смертности находятся врожденные аномалии, болезни органов дыхания, внешние причины. К последним относятся качество ухода и питания, своевременность оказания педиатрической помощи, травмы.
Динамика - исторические факты
Минувшее столетие во всем мире ознаменовалось значительным снижением младенческой смертности. Если в начале ХХ в. в Норвегии умирал, не дожив до года, каждый двенадцатый-тринадцатый новорожденный, во Франции - каждый седьмой, в Германии - каждый пятый, в России - каждый четвертый, то в период с середины до окончания ХХ в. показатели младенческой смертности небывало снизились.
Однако изменения происходили с переменным успехом. В начале XX в. показатели младенческой смертности в России были крайне высоки: в 1901 г. доля умерших в этом возрасте составляла 40,5%, постепенно снижаясь до 38% в 1910 г. В этот период российские показатели превышали соответствующие данные в развитых странах в 1,5-3 раза. Основными причинами младенческой смертности в начале XX в. были желудочно-кишечные и инфекционные заболевания, болезни органов дыхания. Во многом её столь высокий уровень был связан и с особенностями вскармливания грудных детей в русских семьях, где традиционно было принято едва ли не с первых дней жизни давать ребенку прикорм или же полностью лишать его грудного молока, оставлять без матери на попечении детей-подростков или стариков.
Также причинами высокой смертности были неразвитость системы медицинской помощи и родовспоможения, сложная санитарная обстановка труда, быта и жилищных условий, отсутствие знаний по гигиене, низкая грамотность населения. В России отсутствовало какое-либо законодательство об охране материнства и детства, существовавшее во многих европейских странах уже длительное время. В 1920х гг. в результате реформ здравоохранения по принятию и реализации законодательных актов и декретов об охране материнства и детства, по развитию системы родовспоможения и медицинской помощи матери и ребенку, по созданию инфраструктуры для ухода за детьми (молочные кухни, ясли, патронажная система, приюты для грудных детей), по проведению санитарно-просветительской работы как составной части культурной революции, было достигнуто снижение младенческой и материнской смертности. В 1926 г. российский показатель смертности детей до 1 года составил 188 на 1 000 родившихся, т. е. за первую четверть XX века сократившись почти на треть.
1930е гг. характеризуются вновь колебанием уровня младенческой смертности в силу влияющих экономических и социальных причин. Происходило свертывание НЭПа, начался процесс индустриализации и коллективизации сельского хозяйства, что способствовало росту показателей до уровня первого десятилетия XX века. В 1933 г. был достигнут высочайший уровень младенческой смертности - 295,1‰ - во многом из-за массового голода населения, и лишь к концу 1930х гг. стал вновь устойчиво сокращаться. Основной тому причиной стала реализация мер по охране материнства и детства, рост санитарной грамотности населения, улучшение качества медицинской помощи.
После Великой Отечественной войны вновь происходили улучшения показателей. В первую очередь, это связано с появлением и использованием при лечении желудочно-кишечных инфекций и пневмоний антибиотиков и сульфаниламидных препаратов, которые привели к значительному сокращению смертности детей до 1 года от болезней органов дыхания и инфекционных заболеваний. В итоге, в 1946 г. коэффициент младенческой смертности в России составил 124,0‰ по сравнению с 205,2‰ в 1940 г. А к середине 1960х гг. смертность на первом году жизни снизилась в стране еще в 5 раз: до 26,6‰ в 1965 г.
Сокращение младенческой смертности продолжалось и в дальнейшем. Начиная с 1960х гг до конца ХХ в. ее уровень снизился в 2,5 раза. Однако это снижение неоднократно прерывалось периодами возрастания: в 1971−1976, 1984, 1987, 1990−1993 и 1999 гг. Весомым был рост показателя в 1990−1993 гг. с 17,4 до 19,9‰, что связано с переходом с 1 января 1993 г. на рекомендованные ВОЗ определения живорождения.
На Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, состоявшейся в 1990 г., первая из согласованных целей касалась существенного сокращения смертности младенцев и детей в возрасте до 5 лет. В дальнейшем существенный акцент на этом был сделан в обязательствах, принятых в итоговом документе «Мир, пригодный для жизни детей» в ходе специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по положению детей в 2002 г.. Кроме того, начиная с 2000 г. сокращение детской смертности на 2/3 к 2015 г. входило в список Целей развития тысячелетия ООН. И, в соответствии с опубликованным докладом о ЦРТ за 2015 г., коэффициент смертности среди детей в возрасте до пяти лет во всем мире снизился более чем наполовину, сократившись с 90 до 43 смертей на 1 000 живорождений за период 1990-2015 гг.
В настоящее время, как упоминалось в начале данной работы, показатели младенческой смертности не стабильны, но по сравнению с XX в. динамика, безусловно, положительна. По данным ФСГС РФ в 2014 г. коэффициент младенческой смертности составит 7,4, хотя показатели 2015 г., судя по данным за первое полугодие, скорее всего, будут более высоки. В соответствии с анализом существующих проблем для снижения младенческой смертности, являющегося одной из целей «Стратегии развития здравоохранения РФ до 2020 года» можно выдвинуть следующие положения:
- обеспечение равного доступа к высококвалифицированной специализированной помощи независимо от проживания в городской или сельской местности путем регионализации помощи;
- уровневая система оказания перинатальной помощи
- расширение сети перинатальных центров с возможностями оказания оптимальной помощи тяжелобольным и крайне незрелым недоношенным детям
- обеспечение равнодоступной высокотехнологичной помощи беременным и роженицам высокого риска;
- обеспечение полноценного обследования потенциальных родителей на предмет врожденных заболеваний и возможных патологий будущего плода;
- повышение качества и регулярности наблюдения беременных для своевременного направления в учреждения необходимого функционального уровня, соответствующего состоянию здоровья женщины, состоянию плода, характеру течения беременности и предполагаемым срокам родоразрешения;
- мониторинг эффективности и своевременности госпитализации с соблюдением принципов регионализации; развитие экстренной транспортной службы для беременных, рожениц и новорожденных;
- обеспечение условий для непрерывного медицинского образования и повышения квалификации кадров;
- повсеместный анализ причин перинатальной смертности (включая мертворождения) отдельно для доношенных и недоношенных детей с целью выявления существующих резервов снижения перинатальных потерь;
- повышение репродуктивного образования российской молодежи и развитие соответствующего менталитета будущих родителей, основанного на ответственном отношении к собственному здоровью.
М.П. Перова
Член Ассоциации медицинских журналистов
Дети – это одна из самых уязвимых групп риска для инфекционных заболеваний.
По оценочным данным, благодаря иммунизации по всем возрастным группам населения ежегодно предотвращается 2,5 миллиона случаев смерти. Несмотря на это беспрецедентное достижение около 1,5 миллиона детей по-прежнему умирают от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин. Это составляет почти 20% от общей смертности среди детей до пяти лет, достигающей в настоящее время около 6,5 миллионов случаев в год (почти 19 000 детей умирает ежедневно и почти 800 – ежечасно).

По данным за 2013 год, наибольшее количество младенческих смертей в РФ – 44,5 на 10 тыс. – вызвано отдельными состояниями, возникающими в перинатальном периоде. 17,3 из 10 тыс. младенцев погибают из-за врожденных аномалий и 4,2 – от внешних причин. Инфекционные заболевания становятся причиной смерти детей в возрасте до 1 года в 2,9 случаях на 10 тыс. малышей.


К сожалению, рост количества случаев заболеваний по целому ряду инфекционных болезней вызван тем, что многие не очень хорошо себе представляют последствия отказа от прививок. Например, многие родители несерьезно относятся к заболеванию корью, считая ее «обычной» детской болезнью, в то время как корь является чрезвычайно опасным заболеванием и одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста.
По данным ВОЗ, в 2013 году в глобальных масштабах зафиксировано 145 700 случаев смерти от кори - почти 400 случаев в день.
Такой «банальный» коклюш крайне опасен для детей младше 2-х лет – по данным ВОЗ, в 2008 году 195 000 детей погибло от этого заболевания. В развивающихся странах средний показатель летальности среди детей грудного возраста младше года составляет около 4%. Или, краснуха, которая, несмотря на легкость протекания самой болезни, у беременных может приводить к серьезным последствиям, вызывая гибель плода или врожденные пороки развития, известные как синдром врожденной краснухи (СВК).
Конечно, некоторые инфекционные заболевания поддаются излечению. Например, туберкулез, который можно излечивать в большинстве случаев – при условии надлежащего обеспечения и приема эффективных лекарств. Однако у невакцинированных лиц не только сама болезнь протекает тяжело, но и лечение длится долго, а риск осложнений крайне высок. В то время как прививка обеспечивает защиту от развития таких опасных осложнений как туберкулезный менингит и диссеминированная форма ТБ у младенцев и детей младшего возраста.
В то же время некоторые болезни невозможно излечить в принципе. Например, не существует лечения от полиомиелита, его можно только предотвращать с помощью вакцинации.
Может быть, сегодня уже не все помнят, насколько опасен полиомиелит, а ведь в одном случае из 200 при этом заболевании развивается необратимый паралич. А такое обыденное заболевание как свинка (эпидемический паротит) может стать причиной развития глухоты и бесплодия (преимущественно у мальчиков). Так что даже те заболевания, которые кажутся «обычными и нестрашными», могут приводить к тяжелым последствиям, исправить которые уже не удается. И человек получает инвалидность или существенно ухудшает качество своей жизни. Но предотвратить такие последствия можно с помощью вакцинации.
Вакцинопрофилактика направлена на предотвращение возникновения эпидемий, снижение смертности и предотвращение осложнений и инвалидизации в результате заболеваний.
Задать вопрос специалисту
Вопрос экспертам вакцинопрофилактики
Вопросы и ответы
Вакцина "Менюгейт" зарегистрирована в России? С какого возраста разрешена к применению?
Да, зарегистрирована, вакцина – от менингококка С, сейчас также есть вакцина конъюгированная, но уже против 4 типов менингококков – А, С, Y, W135 – Менактра. Прививки проводят с 9 мес.жизни.
Муж транспортировал вакцину РотаТек в другой город.Покупая ее в аптеке мужу посоветовали купить охлаждающий контейнер,и перед поездкой его заморозить в морозильной камере,потом привязать вакцину и так ее транспортировать. Время в пути заняло 5 часов. Можно ли вводить такую вакцину ребенку? Мне кажется,что если привязать вакцину к замороженному контейнеру, то вакцина замерзнет!
Отвечает Харит Сусанна Михайловна
Вы абсолютно правы, если в контейнере был лед. Но если там была смесь воды и льда- вакцина не должна замерзать. Однако живые вакцины, к которым относится ротавирусная, не увеличивают реактогенность при температуре менее 0, в отличие от неживых, а, например, для живой полиомиелитной допускается замораживание до -20 град С.
Моему сыну сейчас 7 месяцев.
В 3 месяца у него случился отек Квинке на молочную смесь Малютка.
Прививку от гепатита сделали в роддоме, вторую в два месяца и третью вчера в семь месяцев. Реакция нормальная, даже без температуры.
Но вот на прививку АКДС нам устно дали медотвод.
Я за прививки!! И хочу сделать прививку АКДС. Но хочу сделать ИНФАНРИКС ГЕКСА. Живем в Крыму!!! В крыму ее нигде нет. Посоветуйте как поступить в такой ситуации. Может есть зарубежный аналог? Бесплатную делать категорически не хочу. Хочу качественную очищеную, что бы как монжно меньше риска!!!
В Инфанрикс Гекса содержится компонент против гепатита В. Ребенок полностью привит против гепатита. Поэтому в качестве зарубежного аналога АКДС можно сделать вакцину Пентаксим. Кроме того, следует сказать, что отек Квинке на молочную смесь не является противопоказанием к вакцине АКДС.
Подскажите, пожалуйста, на ком и как тестируют вакцины?
Отвечает Полибин Роман Владимирович
Как и все лекарственные препараты вакцины проходят доклинические исследования (в лаборатории, на животных), а затем клинические на добровольцах (на взрослых, а далее на подростках, детях с разрешения и согласия их родителей). Прежде чем разрешить применение в национальном календаре прививок исследования проводят на большом числе добровольцев, например вакцина против ротавирусной инфекции испытывалась почти на 70 000 в разных странах мира.
Почему на сайте не представлен состав вакцин? Почему до сих пор проводится ежегодная реакция Манту (зачастую не информативна), а не делается анализ по крови, например, квантифероновый тест? Как можно утверждать реакции иммунитета на введенную вакцину, если еще ни кому не известно в принципе, что такое иммунитет и как он работает, особенно если рассматривать каждого отдельно взятого человека?
Отвечает Полибин Роман Владимирович
Состав вакцин изложен в инструкциях к препаратам.
Реакция Манту. По Приказу № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерациии» и Санитарным правилам СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", несмотря на наличие новых тестов, детям необходимо ежегодно делать реакцию Манту, но так как этот тест может давать ложноположительные результаты, то при подозрении на тубинфицирование и активную туберкулезную инфекцию проводят Диаскин-тест. Диаскин-тест является высоко чувствительным (эффективным) для выявления активной туберкулезной инфекции (когда идет размножение микобактерий). Однако полностью перейти на Диаскин-тест и не делать реакцию Манту фтизиатры не рекомендуют, так как, он не "улавливает" раннее инфицирование, а это важно, особенно для детей, поскольку профилактика развития локальных форм туберкулеза эффективна именно в раннем периоде инфицирования. Кроме того, инфицирование микобактерией туберкулеза необходимо определять для решения вопроса о ревакцинации БЦЖ. К сожалению, нет ни одного теста, который бы со 100% точностью ответил на вопрос, есть инфицирование микобактерией или заболевание. Квантифероновый тест также выявляет только активные формы туберкулеза. Поэтому при подозрении на инфицирование или заболевание (положительная реакция Манту, контакт с больным, наличие жалоб и пр.) используются комплексные методы (диаскин-тест, квантифероновый тест, рентгенография и др.).
Что касается «иммунитета и как он работает», в настоящее время иммунология - это высокоразвитая наука и многое, в частности, что касается процессов на фоне вакцинации – открыто и хорошо изучено.
Ребёнку 1 год и 8 месяцев, все прививки ставились в соответствии с календарем прививок. В том числе 3 пентаксима и ревакцинация в полтора года тоже пентаксим. В 20 месяцев надо ставить от полиомиелита. Очень всегда переживаю и отношусь тщательно к выбору нужных прививок, вот и сейчас перерыла весь интернет, но так и не могу решить. Мы ставили всегда инъекцию (в пентаксиме). А теперь говорят капли. Но капли-живая вакцина, я боюсь различных побочек и считаю, что лучше перестраховаться. Но вот читала, что капли от полиомиелита вырабатывают больше антител, в том числе и в желудке, то есть более эффективные, чем инъекция. Я запуталась. Поясните, инъекция менее эффективна (имовакс-полио, например)? Отчего ведутся такие разговоры? У каплей боюсь хоть и минимальный, но риск осложнения в виде болезни.
Отвечает Полибин Роман Владимирович
В настоящее время Национальный календарь прививок России предполагает комбинированную схему вакцинации против полиомиелита, т.е. только 2 первых введения инактивированной вакциной и остальные – оральной полиовакциной. Это связано с тем, чтобы полностью исключить риск развития вакциноассоциированного полиомиелита, который возможен только на первое и в минимальном проценте случаев на второе введение. Соответственно, при наличии 2-х и более прививок от полиомиелита инактивированной вакциной, осложнения на живую полиовакцину исключены. Действительно, считалось и признается некоторыми специалистами, что оральная вакцина имеет преимущества, так как формирует местный иммунитет на слизистых кишечника в отличие от ИПВ. Однако сейчас стало известно, что инактивированная вакцина в меньшей степени, но также формирует местный иммунитет. Кроме того, 5 введений вакцины против полиомиелита как оральной живой, так и инактивированной вне зависимости от уровня местного иммунитета на слизистых оболочках кишечника, полностью защищают ребенка от паралитических форм полиомиелита. В связи с вышесказанным вашему ребенку необходимо сделать пятую прививку ОПВ или ИПВ.
Следует также сказать, что на сегодняшний день идет реализация глобального плана Всемирной организации здравоохранения по ликвидации полиомиелита в мире, которая предполагает полный переход всех стран к 2019 году на инактивированную вакцину.
В нашей стране уже очень долгая история использования многих вакцин – ведутся ли долгосрочные исследования их безопасности и можно ли ознакомиться с результатами воздействия вакцин на поколения людей?
Отвечает Шамшева Ольга Васильевна
За прошлый век продолжительность жизни людей возросла на 30 лет, из них 25 дополнительных лет жизни люди получили за счет вакцинации. Больше людей выживают, они живут дольше и качественнее за счет того, что снизилось инвалидность из-за инфекционных заболеваний. Это общий ответ на то, как влияют вакцины на поколения людей.
На сайте Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) есть обширный фактический материал о благотворном влиянии вакцинации на здоровье отдельных людей и человечества в целом. Отмечу, что вакцинация –это не система верований, это - область деятельности, опирающаяся на систему научных фактов и данных.
На основании чего мы можем судить о безопасности вакцинации? Во-первых, ведется учет и регистрация побочных действий и нежелательных явлений и выяснение их причинно-следственной связи с применением вакцин (фармаконадзор). Во-вторых, важную роль в отслеживании нежелательных реакций играют постмаркетинговые исследования (возможного отсроченного неблагоприятного действия вакцин на организм), которые проводят компании - владельцы регистрационных свидетельств. И, наконец, проводится оценка эпидемиологической, клинической и социально-экономической эффективности вакцинации в ходе эпидемиологических исследований.
Что качается фармаконадзора, то у нас в России система фармаконадзора только формируется, но демонстрирует очень высокие темпы развития. Только за 5 лет число зарегистрированных сообщений о нежелательных реакциях на лекарственные средства в подсистему «Фармаконадзор» АИС Росздравнадзора выросло в 159 раз. 17 033 жалобы в 2013 году против 107 в 2008. Для сравнения – в США в год обрабатываются данные около 1 млн случаев. Система фармаконадзора позволяет отслеживать безопасность препаратов, накапливаются статистические данные, на основании которых может измениться инструкция по медицинскому применению препарата, препарат может быть отозван с рынка и т.п. Таким образом, обеспечивается безопасность пациентов.
И по закону «Об обращении лекарственных средств» от 2010 года врачи обязаны сообщать федеральным органам контроля обо всех случаях побочного действия лекарственных средств.